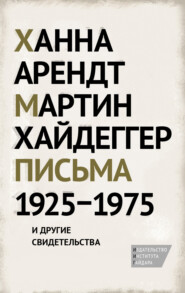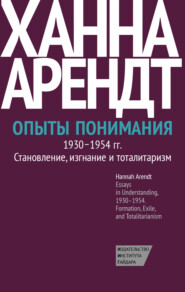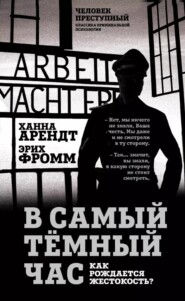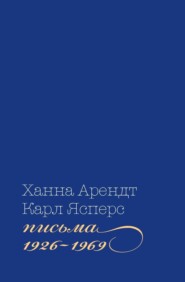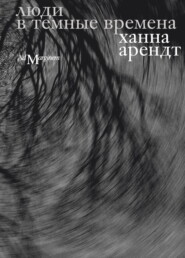По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Между прошлым и будущим. Восемь упражнений в политической мысли
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Между прошлым и будущим. Восемь упражнений в политической мысли
Ханна Арендт
В сборник вошли философские эссе, написанные в 50?е и 60?е годы ХХ века. Арендт рассуждает о роли, которую понятия «традиции», «религии» и «авторитета» играли в политическом и историческом самовосприятии европейцев со времен Древнего Рима. Констатируя распад того единства, которое эти понятия образовывали вплоть до Нового времени, Арендт исследует последствия этого распада для разных областей человеческой жизни – воспитания, политики, культуры. Свои эссе Арендт преподносит как «упражнения в политической мысли», как попытки научиться мыслить в мире, в котором традиционные понятия и представления больше не могут служить нам опорой.
В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
Ханна Арендт
Между прошлым и будущим. Восемь упражнений в политической мысли
Hannah Arendt
Between Past and Future Eight exercises in political thought
© Hannah Arendt, 1954, 1956, 1958, 1960, 1961, 1963, 1967, 1968
© Издательство Института Гайдара, 2014
Генриху, после двадцати пяти лет
Предисловие: Брешь между прошлым и будущим
Notre heritage n'est prеcеdе d'aucun testament («Наше наследство досталось нам без завещания») – возможно, страннейший из всех странных своей отрывочностью афоризмов, в которые французский поэт и писатель Рене Шар уместил суть того, что четыре года в rеsistance стали означать для целого поколения европейских писателей и литераторов[1 - Эту и последующие цитаты см. в: Char R. Feuillets d'Hypnos, Paris, 1946. Эти афоризмы, написанные в 1943 и 1944 гг., в последние годы Сопротивления, и опубликованные в Collection Espoir под редакцией Альберта Камю, вышли на английском языке вместе с более поздними вещами под заголовком Hypnos Waking; Poems and Prose. (New York, 1956).]. С разгромом Франции, ставшим для них полной неожиданностью, политическая сцена их страны внезапно опустела: ее оставили шутам-марионеткам и дуракам; и те, само собой никогда не участвовавшие в официальных делах Третьей республики, заполнили ее, словно втянутые вакуумом. Таким образом, без всякого предостережения и, вероятно, вопреки своим сознательным наклонностям, они волей-неволей образовали такое публичное пространство, где – без каких-либо бюрократических принадлежностей и втайне от друзей и врагов – все, что имело отношение к делам страны, выполнялось с помощью слова и дела.
Долго это не продолжалось. Их освободили от того, что они с самого начала считали «бременем», и вернули к их личным делам (которые, как они теперь знали, невесомы, поскольку ни к чему не относятся), снова отделенным от «мира действительности» с помощью еpaisseur triste, «печальной непроницаемости» частной жизни, сосредоточенной лишь вокруг себя самой. А если они отказывались «возвратиться к тому, с чего начинали, – к своему самому жалкому образу жизни», то им оставалось лишь вернуться к старой бессодержательной схватке конфликтующих идеологий, которая после победы над общим врагом снова охватила политическую арену, расколола прежних товарищей по оружию на бесчисленные клики (даже не на фракции) и втянула их в бесконечные полемики и интриги газетной войны. Случилось то, что Шар предвидел, ясно предчувствовал еще тогда, когда продолжалась настоящая война: «Я знаю, что, если выживу, мне придется расстаться с ароматом этих самых важных лет, отпустить (но не растоптать) свое сокровище». Они лишились своего сокровища.
Что это было за сокровище? Похоже, в их собственном понимании оно состояло как бы из двух взаимосвязанных частей: они обнаружили, что тот, кто «присоединялся к Сопротивлению, находил себя», что для него заканчивались «искания [себя], без всякого покровительства и от одной только неудовлетворенности», что он переставал подозревать себя в «неискренности», в том, что он «брюзгливый и подозрительный актер жизни», что он мог позволить себе «обнажиться». Именно нагими, лишенными всех масок, – как тех, которыми общество наделяет своих членов, так и тех, которые создает для себя сам индивид, реагируя на общество, – их впервые в жизни неожиданно посетил призрак свободы. Разумеется, не потому, что они боролись против тирании и еще более страшных вещей (то же самое можно сказать про каждого солдата союзных войск), а потому, что они «бросили вызов», взяли инициативу в свои руки и тем самым, сами того не зная и не замечая, начали создавать между собой то публичное пространство, где свобода могла быть явлена. «Свобода приглашена к каждой нашей совместной трапезе. Кресло пустует, но место накрыто».
Участники европейского Сопротивления – не первые и не последние, кто потерял свое сокровище. Историю революций (в которой, что касается политики, раскрывается самая суть истории о Новом времени), начиная с лета 1776-го в Филадельфии и лета 1789-го в Париже и заканчивая осенью 1956-го в Будапеште, можно иносказательно представить в виде рассказа о древнем сокровище, которое вдруг появляется при самых разнообразных обстоятельствах, а потом при столь же загадочных обстоятельствах снова исчезает словно фата-моргана. Конечно, есть много веских причин считать, что это сокровище всегда было миражом, а не реальностью и что мы имеем здесь дело не с чем-то материальным, а с призраком (одна из самых веских причин – тот факт, что это сокровище до сих пор так и не получило названия). Существует ли нечто, не в открытом космосе, а в нашем мире, среди человеческих дел, если у него нет даже названия? Единороги и сказочные принцессы и то кажутся более реальными, чем потерянное сокровище революций. И тем не менее если мы обратим взоры к началу этой эпохи, а особенно к предшествовавшим ей десятилетиям, то можем увидеть, что в XVIII веке по обе стороны Атлантики у этого сокровища было название – давно уже забытое и, возникает искушение сказать, утраченное еще до того, как исчезло само сокровище. В Америке оно называлось «публичное счастье», и это выражение с его коннотациями «добродетели» и «славы» мы едва ли понимаем лучше, чем французский аналог, «публичную свободу». Трудность для нас в том, что в обоих случаях ударение падало на слово «публичный».
Как бы то ни было, именно безымянность этого сокровища имеет в виду поэт, когда говорит, что наше наследство досталось нам без завещания. Завещание, сообщая наследнику, что будет его по праву, передает прошлое имущество будущему. Без завещания или, расшифруем метафору, без традиции (которая выбирает и называет, передает через поколения и сохраняет, указывает, где сокровища и какова их ценность) нет, по-видимому, никакой основанной на вручении преемственности во времени, и, следовательно, с точки зрения человека, нет ни прошлого, ни будущего, а только вечно меняющийся мир и круговой жизненный цикл обитающих в нем созданий. Таким образом, сокровище было потеряно не из-за исторических обстоятельств или неблагоприятной действительности, а потому что никакая традиция не предвосхитила его появление, или его действительность, и никакое завещание не вручило его будущему. Во всяком случае, эта потеря, которая, быть может, и стала неизбежной в силу политической действительности, была довершена забвением, провалами в памяти, постигшими не только наследников, но и действующих лиц, свидетелей, тех, у кого сокровище на краткий миг оказалось в ладонях рук, короче, самих живших тогда. Ведь память, которая является лишь одним из модусов мышления (хотя и одним из самых важных), беспомощна вне какого-то уже сформированного контекста, а человеческий ум только в редчайших случаях способен помнить нечто, совсем ни с чем не связанное. Таким образом, первыми, кто не сумел запомнить, на что походило это сокровище, были именно те, кто обладал им и нашел его настолько странным, что даже не знал, как его назвать. Тогда их это не беспокоило; пусть они и не знали своего сокровища, они достаточно хорошо знали смысл того, что делали, и знали, что он не сводится к тому, победят они или потерпят поражение: «Действие, имеющее смысл для живых, имеет ценность только для мертвых, завершение лишь в умах, которые наследуют его и ставят под вопрос». Трагедия началась не тогда, когда освобождение страны в целом уничтожило, почти автоматически, маленькие скрытые островки свободы, которые в любом случае были обречены, а когда не нашлось ума, который унаследовал бы и ставил под вопрос, помнил бы и размышлял. Суть в том, что «завершение», которое, вообще говоря, каждое разыгрывающееся событие должно получить в умах тех, кто будет потом рассказывать его историю и передавать его смысл, ускользнуло от них. Акт не получил завершения в мышлении, не был схвачен в воспоминании, а потому, когда все кончилось, просто не осталось никакой истории, которую можно было рассказывать.
В этой ситуации нет ничего абсолютно нового. Нам слишком хорошо знакомы периодически повторяющиеся вспышки неистовой озлобленности на разум, мышление и рациональное рассуждение. Такова естественная реакция людей, которые на собственном опыте знают, что мысль и действительность разошлись путями, что действительность стала непроницаемой для света мысли, а мысль, больше не привязанная к происходящему подобно тому, как окружность привязана к своему центру, зачастую либо становится совсем бессмысленной, либо начинает пережевывать старые истины, уже давно ни к чему определенному не относящиеся. Даже предвидение этого тяжелого положения стало к настоящему моменту чем-то хорошо знакомым. Когда Токвиль вернулся из Нового Света, который он сумел описать и подвергнуть анализу настолько блестяще, что его работа осталась классикой и пережила более века радикальных перемен, он вполне осознавал, что и от него ускользнуло то, что Шар позже назвал «завершением» акта и события. Цитата Шара: «Наше наследство досталось нам без завещания» – звучит словно вариация слов Токвиля: «Прошлое не озаряет светом будущее, и ум человека бредет во тьме»[2 - Цитата из последней главы «Демократии в Америке» [Токвиль. Демократия в Америке, М.: Прогресс, 1992; перевод изменен. – Примеч. пер.]. Полностью она выглядит так: «Несмотря на то что революция, совершающаяся в общественном устройстве, законодательстве, воззрениях и чувствах людей, еще далека от своего завершения, уже сейчас невозможно сопоставить результаты ее деяний с тем, что мир видел ранее. Погружаясь век за веком в глубины истории вплоть до самой ранней античности, я не обнаруживаю ничего, что могло бы соответствовать современному миру. Прошлое не озаряет светом будущее, и ум человека бредет во тьме».]. И все-таки единственное точное описание этого тяжелого положения, насколько я знаю, содержится в одной из тех притч Кафки, которые – и это, возможно, уникальное в литературе явление – суть настоящие ?????????, падающие параллельно происходящему и вокруг него как лучи света, которые, однако, не освящают его внешний облик, а подобно рентгеновским лучам обнажают его внутреннюю структуру, которую в нашем случае составляют скрытые процессы ума.
Притча Кафки такова[3 - Эта история завершает серию «Записи 1920 года» и носит заглавие «Он». В этой стране она вышла в сборнике The Great Wall of China. (New York, 1946, trans. by Willa and Edwin Muir). [На русском языке см.: Кафка Ф. Афоризмы, М.: АСТ, 2007; перевод изменен. – Примеч. пер.] Я следовала английскому переводу везде, кроме нескольких мест, где мне необходим был более дословный перевод. Немецкий оригинал, который можно найти в 5-м томе Gesammelte Schriften (New York, 1946), выглядит так: «Er hat zwei Gegner: Der erste bedr?ngt ihn von hinten, vom Ursprung her. Der zweite verwehrt ihm den Weg nach vorn. Er k?mpft mit beiden. Eigentlich unterst?tzt ihn der erste im Kampf mit dem Zweiten, denn er will ihn nach vorn dr?ngen und ebenso unterst?tzt ihn der zweite im Kampf mit dem Ersten; denn er treibt ihn doch zur?ck. So ist es aber nur theoretisch. Denn es sind ja nicht nur die zwei Gegner da, sondern auch noch er selbst, und wer kennt eigentlich seine Absichten? Immerhin ist es sein Traum, dass er einmal in einem unbewachten Augenblick dazu geh?rt allerdings eine Nacht, so finster wie noch keine war aus der Kampflinie ausspringt und wegen seiner Kampfeserfahrung zum Richter ?ber seine miteinander k?mpfenden Gegner erhoben wird».]:
У него два противника. Первый теснит его сзади, со стороны истока. Второй преграждает ему путь вперед. Он борется с обоими. Конечно, первый поддерживает его в борьбе со вторым, ибо хочет протолкнуть его вперед, и так же поддерживает его второй в борьбе с первым, ибо отталкивает его назад. Но это только в теории. Ведь есть не только эти два противника, но есть еще и он сам, а кто, собственно, знает его намерения? Тем не менее он мечтает о том, что когда-нибудь, украдкой – для этого, конечно, нужна такая темная ночь, какой еще не было, – он соскочит с линии боя и благодаря своему боевому опыту будет поставлен рефери над своими борющимися друг с другом противниками.
Происшествие, о котором рассказывает эта притча, следует, по внутренней логике предмета, за событиями, суть которых мы нашли выраженной в афоризме Рене Шара. По большому счету оно начинается именно там, где афоризм, с которого начались наши рассуждения, оставляет череду событий, так сказать, висеть в воздухе. Кафкианская борьба начинается тогда, когда действие достигло своего окончания, и появившаяся в результате история ждет того, чтобы найти завершение «в умах, которые унаследуют его и будут ставить его под вопрос». Задача ума – понять, что произошло, и это понимание есть, по Гегелю, способ, каким человек примиряет себя с действительностью; его настоящая цель – быть в ладу с миром. Беда в том, что, если ум не способен принести примирение, он сразу оказывается втянут в свою, особую войну.
Однако исторически этой стадии эволюции современного ума предшествовал, по крайней мере в XX веке, не один, а два акта. Перед тем как поколению Рене Шара, которого мы выбрали здесь его представителем, пришлось оставить занятия литературой, потому что настало время действовать, другое поколение, лишь немного старше, обратилось к политике за решением философских проблем и попыталось сбежать из сферы мышления в сферу действия. Именно люди этого старшего поколения позже стали выразителями и создателями того, что сами они назвали экзистенциализмом; ведь экзистенциализм, по крайней мере в его французской версии, это прежде всего бегство от трудностей современной философии к слепой приверженности действию. И поскольку в обстоятельствах XX века так называемые интеллектуалы – писатели, мыслители, художники, литераторы и прочие – могли получить доступ в публичную сферу только во времена революций, революция стала, как однажды заметил Мальро (в «Уделе человеческом»), играть «роль, которую когда-то играла вечная жизнь»: она «спасает тех, кто ее делает». Экзистенциализм, бунт философа против философии, возник не тогда, когда философия оказалась неспособной применить свои правила к сфере политических дел (эту неудачу политическая философия, как ее понимал бы Платон, потерпела еще почти на заре западной философии и метафизики), и даже не тогда, когда оказалось, что и с задачей, поставленной перед ней Гегелем, философия тоже не справляется, – а именно понять и осмыслить в понятиях историческую действительность и события, сделавшие современный мир таким, какой он есть. Ситуация стала безнадежной, когда было показано, что старые метафизические вопросы бессмысленны; т. е. когда до современного человека стало доходить, что он живет теперь в таком мире, где его ум и его традиция мысли не в состоянии даже задать адекватные, осмысленные вопросы, не говоря уже о том, чтобы дать ответы и разрешить собственные проблемы. В этом тяжелом положении действие, коль скоро оно подразумевает вовлеченность и верность, коль скоро оно engagеe[4 - Привержено определенной моральной или политической позиции (фр.). – Примеч. пер.], казалось, дает надежду пусть и не решить проблемы, но жить с ними, не становясь, как однажды выразился Сартр, salaud, лицемером.
Обнаружение того, что человеческий ум по каким-то загадочным причинам пришел в неисправность, составляет, так сказать, первый акт той истории, которую мы здесь пытаемся рассказать. Я упомянула о нем, хотя и коротко, потому что иначе мы не поняли бы особой иронии того, что последовало дальше. Рене Шар, писавший в последние месяцы Сопротивления, когда освобождение (означающее для нас освобождение от действия) уже ясно маячило впереди, подытожил свои размышления призывом мыслить, обращенным к тем, кто переживет войну, не менее страстным и настойчивым, чем призыв его предшественников действовать. Если бы надо было написать интеллектуальную историю нашего века не в форме истории сменяющих друг друга поколений, требующей от историка в буквальном смысле быть верным последовательности теорий и подходов, а в форме биографии отдельной личности, претендуя лишь на метафорическое приближение к тому, что в действительности происходило в умах людей, обнаружилось бы, что этот человек был вынужден духовно вернуться к тому, с чего начинал, не один, а два раза: первый раз, когда он бежал от мышления к действию, и второй – когда действие, вернее, то, что он его совершил, заставило его вернуться к мышлению. При этом стоит заметить, что упомянутый призыв мыслить раздался в тот странный промежуточный период, который порой вклинивается в историческое время, – период, когда не только позднейшие историки, но и действующие лица и свидетели, сами живущие, понимают, что имеют дело с интервалом времени, полностью определенным тем, чего уже нет, и тем, что еще не наступило. В истории такие интервалы не раз показывали, что могут нести в себе момент истины.
Теперь мы можем вернуться к Кафке, который в логике этого предмета, хотя и не в его хронологии, занимает последнюю и, так сказать, самую продвинутую позицию. (Загадка Кафки, который за более чем тридцать пять лет растущей посмертной славы утвердился как один из самых выдающихся писателей, как всем писателям писатель, до сих пор не разгадана. Прежде всего эта загадка в том, что он каким-то поразительным образом перевернул устоявшиеся отношения между переживанием (experience) и мышлением. Мы привыкли связывать богатство деталей и драматичность действия с переживанием придуманной действительности, а интеллектуальным процессам приписывать абстрактную бледность, которую считаем платой за их точность и упорядоченность. Кафка же одной только силой интеллекта и воображения создал из ничтожного, «абстрактного» минимума переживаний такой интеллектуальный ландшафт, в котором без потери точности нашлось место для всего богатства, всего разнообразия и всей драматичности, свойственных «реальной» жизни. Поскольку мышление было для него самой важной и самой живой частью действительности, он развил в себе тот необъяснимый дар предвидения, который даже сегодня, по прошествии сорока лет, полных беспрецедентными и непредсказуемыми событиями, не перестает нас восхищать.) В этой предельно краткой и простой истории рассказывается об интеллектуальном феномене, о чем-то таком, что можно назвать событием мышления. Сценой выступает поле битвы, на котором сталкиваются силы прошлого и будущего; между ними мы видим человека, которого Кафка называет «он» и который, если он хочет хотя бы удержать свои позиции, должен дать бой обеим силам. Таким образом, одновременно происходит два или даже три сражения: сражение между «его» противниками и сражение человека посередине с каждым из них. Однако похоже, что кто-то вообще с кем-то сражается только благодаря наличию человека, без которого, можно подозревать, силы прошлого и будущего уже давно либо нейтрализовали бы друг друга, либо уничтожили.
Первым делом надо заметить, что не только будущее («волна будущего»), но и прошлое рассматривается как сила, а не в духе всех наших метафор, как бремя, которое человеку приходится на себя брать и от мертвого груза которого живущие могут или даже должны избавиться по мере своего марша в будущее. Выражаясь словами Фолкнера, «прошлое не умирает, оно даже не проходит». Кроме того, это прошлое, простираясь до самого истока, не тянет назад, а толкает вперед, тогда как именно будущее, вопреки тому что можно было бы ожидать, теснит нас назад в прошлое. С точки зрения человека, всегда живущего в интервале между прошлым и будущим, время – это не континуум, не поток непрерывной смены происходящего; оно сломано посередине, в том месте, где «он» стоит; и это «его» местоположение – не настоящее, как мы обычно его воспринимаем, а, скорее, брешь во времени, существование которой поддерживается «его» непрерывной борьбой, «его» сопротивлением прошлому и будущему. Только потому, что в ход времени внедряется человек, и только в той мере, в какой он удерживает свои позиции, поток безразличного времени разбивается на грамматические времена; именно это внедрение – начало начала, говоря на языке Августина, – раскалывает временной континуум на силы, которые, поскольку они сфокусированы на частице или теле (которое задает им направление) начинают затем биться друг с другом и действовать на человека так, как это описывает Кафка.
Думаю, можно сделать еще шаг, не исказив того, что имел в виду Кафка. Он показывает, как внедрение человека кладет конец однонаправленному потоку времени, но, как ни странно, не меняет традиционного образа времени как движущегося по прямой линии. Поскольку Кафка сохраняет традиционную метафору прямолинейного движения времени, «ему» едва хватает места, чтобы стоять; и всякий раз, стоит ему подумать о том, чтобы нанести собственный удар, «он» принимается мечтать об области над линией боя, выше нее, – а разве эта мечта не есть нечто иное, как старая мечта западной метафизики от Парменида до Гегеля о вневременной, непространственной, сверхчувственной сфере как области, подобающей мышлению? Очевидно, чего не хватает в кафкианском описании события мышления, так это какого-то пространственного измерения, где мышление могло бы идти в ход, не сталкиваясь с необходимостью вовсе выскакивать из человеческого времени. Проблема кафкианской истории при всем ее великолепии в том, что едва ли можно сохранить понятие о прямолинейном движении времени, если его однонаправленный поток разбивается на противоборствующие силы, направленные и действующие на человека. Внедрение человека, ломающего континуум, не может не заставить эти силы отклониться, хотя бы слегка, от своего первоначального направления, и если бы это произошло, они не сталкивались бы больше лоб в лоб, а сходились бы под углом. Другими словами, брешь, где «он» стоит, – это, по крайней мере потенциально, не просто интервал, скорее она напоминает то, что физики называют параллелограммом сил.
В идеале действие двух сил, которые образуют параллелограмм сил, ставший для кафкианского «него» полем битвы, вылилось бы в третью силу, результирующую диагональ, которая исходила бы из точки, в которой те две силы сталкиваются и на которую они действуют. Эта диагональная сила в одном отношении отличалась бы от тех двух сил, результатом которых стала. Две противоборствующие силы безграничны в своем истоке: одна идет из бесконечного прошлого, а другая – из бесконечного будущего, однако, не имея известного начала, они имеют абсолютный конец, точку, где они сталкиваются. Диагональная сила, напротив, была бы ограничена в своем истоке: ее стартовая точка – место столкновения противоборствующих сил, зато она не имела бы точки окончания, поскольку возникла из совместного действия двух сил, исток которых – бесконечность. Эта диагональная сила, исток которой известен, направленность которой определена прошлым и будущим, но конечная точка которой теряется в бесконечности, – идеальная метафора деятельности мышления. Если бы кафкианский «он» смог приложить свои силы по этой диагонали, в точном равноудалении от прошлого и будущего, так сказать, прогуливаясь туда-сюда вдоль этой диагональной линии медленными, упорядоченными шагами, которые лучше всего подходят для хода мысли, он не соскочил бы с линии боя и не оказался бы над схваткой, как того требует притча, – ведь эта диагональ, хотя и направлена в бесконечность, остается привязана к настоящему и укорена в нем. Вместо этого он открыл бы, – теснимый, как и прежде, своими противниками в единственном направлении, откуда он может видеть и изучать то, что имеет к нему самое близкое отношение, то, что возникло лишь с его собственным самовнедряющимся появлением, – огромное, постоянно меняющееся пространство-время, созданное и ограниченное силами прошлого и будущего. Он нашел бы во времени место, достаточно удаленное от прошлого и будущего, чтобы рефери было откуда беспристрастно судить борющиеся друг с другом силы.
Но велико искушение сказать, что все это так «только в теории». Куда более вероятно (и в других своих притчах и историях Кафка часто описывал такое развитие событий), что «он», не способный отыскать диагональ, которая увела бы его с линии боя в пространство, идеально сформированное параллелограммом сил, «умрет от истощения», обессилев от непрерывной борьбы, позабыв свои первоначальные намерения и осознавая лишь существование бреши во времени, которая, покуда он жив, остается почвой, на которой ему надо стоять, хотя и кажется полем битвы, а не домом.
Во избежание непонимания: образы, которые я здесь использую, чтобы метафорически, эскизно обозначить условия, в которых сегодня находится мышление, могут иметь силу только в сфере интеллектуальных феноменов. Применительно к историческому или биографическому времени ни одна из этих метафор не будет иметь никакого смысла, потому что в этом времени брешей не бывает. Только в той мере, в какой он мыслит и в какой он не имеет возраста («он», как совершенно правильно зовет его Кафка, а не «кто-то»), человек в полной актуальности своего конкретного бытия живет в этой временной бреши между прошлым и будущим. Подозреваю, что эта брешь – не современный феномен и, возможно, даже не исторический отрезок, что она существует столько же, сколько человек на Земле. Она вполне может быть областью духа или, вернее, дорогой, вымощенной мышлением, той тропинкой вневременности, которую деятельность мышления протаптывает в пространстве-времени смертных людей и где мысль, память и предвидение спасают все, чего касаются, от разрушения историческим и биографическим временем. В отличие от мира и культуры, куда мы попадаем, рождаясь, это маленькое не-время-пространство, находящееся в самом сердце времени, можно только констатировать, но нельзя унаследовать из прошлого и передать потомкам; каждое новое поколение, более того, каждое новое человеческое существо, внедряясь между бесконечным прошлым и бесконечным будущим, должно заново открыть его и старательно вымостить.
Но беда в том, что мы, похоже, не готовы и не оснащены для этой деятельности мышления, для того чтобы обосноваться в бреши между прошлым и будущим. В течение очень долгого периода нашей истории, по большому счету тысячелетий, что последовали за основанием Рима и определялись римскими понятиями, через эту брешь имелся мост, который со времен Рима мы называем традицией. Ни для кого не секрет, что в течение Нового времени этот мост все больше ветшал. Когда нить традиции наконец оборвалась, брешь между прошлым и будущим перестала быть условием, специфическим для деятельности и для опыта тех немногих, кто сделал мышление своим основным занятием. Она стала осязаемой действительностью и трудностью, с которой столкнулся каждый; иными словами, она стала фактом политического значения.
Кафка упоминает опыт – опыт борьбы, приобретаемый «им», удерживающим позиции между сталкивающимися волнами прошлого и будущего. Этот опыт есть опыт мышления (коль скоро вся притча, как мы видели, посвящена интеллектуальному феномену), а приобрести его, как и всякий опыт в каком-то деле, можно только на практике, путем упражнений. (В этом и в других отношениях этот тип мышления отличается от таких интеллектуальных процессов, как дедукция, индукция и выведение заключений, в случае которых имеются логические правила непротиворечивости и внутренней согласованности, которые можно выучить раз и навсегда, а затем надо лишь применять.) Нижеследующие восемь эссе – это именно такие упражнения, и их единственная задача – на опыте выяснить, как мыслить. В них нет предписаний к тому, о чем мыслить или каких истин придерживаться. И уж тем более я не пытаюсь в них восстановить разорванную нить традиции или изобрести какие-нибудь свежие суррогаты, которые могли бы заполнить брешь между прошлым и будущим. В этих упражнениях я оставила проблему истины в стороне и сосредоточилась исключительно на том, как передвигаться внутри бреши – возможно, в единственной области, где истина в конце концов станет явлена.
Выражаясь точнее, эти эссе – упражнения в политической мысли в том виде, в каком она вытекает из актуальных политических событий (хотя о таких событиях будет упоминаться лишь время от времени). Я исхожу из предпосылки, что мысль как таковая вытекает из событий жизненного опыта и должна сохранять связь с этими событиями как со своими единственными путеводными вехами. Поскольку место этих упражнений – между прошлым и будущим, в них входит как критика, так и эксперимент, но цель экспериментов не в том, чтобы спроектировать какое-то утопическое будущее, а задача критики прошлого и традиционных понятий не в том, чтобы «разоблачить». К тому же нет строгого разграничения между критической и экспериментальной частью этих эссе, хотя, если говорить грубо, в первых трех главах больше критического, чем экспериментального, а в последних пяти – больше экспериментального, чем критического. Я переношу акцент постепенно не потому, что мне так захотелось, ведь в критической интерпретации прошлого есть элемент эксперимента. Главная цель этой интерпретации – открыть действительные истоки традиционных понятий, чтобы заново дистиллировать их изначальный дух, который столь печальным образом испарился из ключевых слов политического языка (таких как свобода и справедливость, авторитет и разум, ответственность и добродетель, власть и слава), оставив после себя пустые оболочки, с помощью которых предлагается решать все вопросы независимо от того, какая за ними стоит феноменальная реальность.
Мне кажется, и, надеюсь, читатель согласится, что эссе как литературный жанр имеет естественное родство с теми упражнениями, которые я имею в виду. Ясно, что эта книга упражнений, подобно любому сборнику эссе, могла бы иметь больше или меньше глав, не меняя своего характера. Их единство (которое в моих глазах оправдывает то, что они издаются как книга) – это не единство целого, а единство последовательности частей, написанных, как и в музыкальных сюитах, в одной и той же тональности либо в соотносящихся друг с другом. Сама последовательность определяется содержанием. В этом отношении книга делится на три части. В первой части речь идет о современном сломе традиции и о понятии истории, которое в Новое время надеялись подставить на место понятий традиционной метафизики. Во второй части обсуждаются два центральных и взаимосвязанных политических понятия – «авторитет» и «свобода». Этой второй части потому должна предшествовать первая, что такие фундаментальные и прямые вопросы, как «Что такое авторитет?» и «Что такое свобода?», могут возникнуть у нас только в том случае, если никаких традиционных ответов на них мы не унаследовали или если эти ответы больше не имеют силы. Наконец, четыре эссе последней части представляют собой честные попытки применить мышление, опробованное в первых двух частях, к неотложным, животрепещущим проблемам, с которыми мы сталкиваемся каждый день, но, конечно, не для того, чтобы найти определенные решения, а в надежде прояснить соответствующие темы, чтобы потом увереннее иметь дело с более узкими вопросами.
Традиция и Новое время
I
Наша традиция политической мысли, определенно, берет начало в учениях Платона и Аристотеля. И не менее определенным мне представляется то, что на теории Карла Маркса она закончилась. Начало было положено, когда Платон в своем «Государстве», в аллегории пещеры описал сферу человеческих дел, – все то, что относится к коллективной жизни людей в общем мире, – как нечто темное, путаное и обманчивое, от чего должны отвернуться и бежать те, кто стремится к истинному бытию, если они хотят открыть ясное небо вечных идей. Конец пришел, когда Маркс объявил, что философия и ее истина располагаются не за пределами сферы человеческих дел и общего мира людей, а как раз в них и могут «осуществиться» только в сфере коллективной жизни (которую он назвал «общество») посредством возникновения «обобществленных людей» (vergesellschaftete Menschen). Любая политическая философия неизбежно скрывает в себе какое-то отношение философа к политике; ее традиция началась, когда философ отвернулся от политики, а затем вернулся, чтобы навязать человеческим делам свои эталоны. Конец пришел, когда философ отвернулся от философии, чтобы «осуществить» ее в политике. Именно это попытался сделать Маркс, что выразилось, во-первых, в его решении (по существу, философском) отречься от философии и, во-вторых, в его намерении «изменить мир», а значит, и философствующие умы, «сознание» людей.
Начало и окончание традиции имеют кое-что общее: никогда больше фундаментальные проблемы политики не были так ясно видны невооруженным глазом в их непосредственной и простой насущности, как тогда, когда их впервые сформулировали и когда их в последний раз попытались решить. Это начало, выражаясь словами Якоба Буркхардта, подобно «основной мелодии», звучащей в бесчисленных модуляциях на протяжении всей истории западной мысли. Только начало и конец, так сказать, чисты от модуляций; и поэтому основная мелодия никогда больше так не захватывает слушателей и не поражает их красотой, как тогда, когда впервые посылает в мир свои гармонизирующие звуки. И никогда она так не раздражает и не мучит слух, как тогда, когда продолжает звучать в мире, звучание – и мышление – которого она уже не может гармонизировать. Случайное замечание, сделанное Платоном в его последней работе: «Начало подобно богу, который спасает все вещи, пока обитает среди людей» – ???? ??? ??? ???? ?? ????????? ???????? ?????????? ?????[5 - Законы, 775e.], – верно в отношении нашей традиции; пока ее начало было живо, оно могло спасать все вещи и приводить их к гармонии. И точно так же, когда традиция подошла к концу, она стала разрушительной – не говоря уже о последовавшей неразберихе и беспомощности, в которой мы пребываем сегодня.
В философии Маркса (он не столько поставил Гегеля с головы на ноги, сколько перевернул традиционную иерархию мышления и действия, созерцания и труда, а также философии и политики) начало, положенное Платоном и Аристотелем, доказывает свою живучесть, приводя Маркса к вопиюще противоречивым утверждениям главным образом в той части его учения, которую обычно называют утопической. Наиболее важны его предсказания относительно того, что в условиях «обобществленного человечества» «государство отомрет», а производительность труда станет настолько велика, что труд так или иначе себя упразднит, и у каждого члена общества появится почти неограниченный досуг. Разумеется, эти положения не только являются предсказаниями, но и выражают марксовский идеал наилучшего общества. В этом смысле они не утопичны; скорее, в них просто воспроизводится политическая обстановка того же самого афинского города-государства, который был моделью опыта для Платона и Аристотеля и тем самым основанием, на котором покоится наша традиция. Афинский полис функционировал без разделения на тех, кто правит, и на тех, кем правят; и поэтому он не был государством в том смысле, в каком это слово употребляем мы и в каком его употреблял Маркс – в соответствии с традиционными определениями форм правления, а именно – монархии как правления одного, олигархии как правления немногих и демократии как правления большинства. К тому же афинские граждане только постольку были гражданами, поскольку имели досуг, обладали той свободой от труда, появление которой в будущем предсказывал Маркс. Не только в Афинах, но и на протяжении всей античности и вплоть до Нового времени те, кто трудился, не были гражданами. Гражданами были прежде всего те, кто не трудился или обладал чем-то большим, чем только трудоспособностью. Сходство станет еще поразительнее, если мы пристальнее посмотрим на марксовскую картину идеального общества. Предполагается, что досуг существует при отсутствии государства или в условиях, когда, согласно знаменитому высказыванию Ленина, очень точно передающему мысль Маркса, ведение общественных дел станет настолько простым, что с ним справится любая кухарка. Понятно, что в таких условиях любое занятие политикой (энгельсовское упрощенное «управление вещами») может быть интересным только для кухарки или в лучшем случае для тех «средних умов», которые, как считал Ницше, лучше всего подходят для ведения публичных дел[6 - Энгельса см.: Anti-Duhring. Zurich, 1934, p. 275. Ницше см.: Morgenr?te. Werke. M?nchen, 1954, vol. I, aph, 179. [Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 14, М.; Л., 1931, с. 263; Ницше Ф. Утренняя заря, § 179. – Примеч. пер.]]. Разумеется, это очень сильно отличается от реального положения дел в античном обществе, где, наоборот, политические обязанности считались настолько тяжелыми и требовавшими столько времени, что нельзя было допустить, чтобы те, на кого они возложены, занимались какой-либо утомительной деятельностью. (Так, например, гражданином мог быть пастух, но не крестьянин; живописец еще признавался кем-то большим, чем ????????, но скульптор – уже нет. В каждом случае критерием были попросту затрачиваемые усилия.) Именно против отнимавшей много времени политической жизни типичного зрелого гражданина греческого полиса выдвинули философы (особенно Аристотель) свой идеал ?????, досуга. В античности досуг означал не свободу от обычного труда, которая разумелась сама собой, а время, свободное от политической деятельности и государственных дел.
В марксовском идеальном обществе эти два разных понятия нерасторжимо слиты: в бесклассовом, безгосударственном обществе неким образом реализуются общеантичные условия для досуга в смысле возможности не трудиться, а заодно и для досуга в смысле возможности не заниматься политикой. Это, как предполагается, должно произойти, когда «управление вещами» придет на смену правительству и политическому действию. Такой двоякий досуг, необремененность ни трудом, ни политикой, был для философов условием ???? ??????????, жизни, посвященной философии и знанию в самом широком смысле слова. Другими словами, ленинская кухарка живет в обществе, которое предоставляет ей столько же досуга в смысле возможности не трудиться, сколько имели античные граждане, чтобы посвящать свои жизни ????????????, и вдобавок столько же досуга в смысле возможности не заниматься политикой, сколько греческие философы требовали для немногих, желавших посвящать все свое время философствованию. Сочетание безгосударственного (аполитического) и почти не трудящегося общества потому так ясно маячило в воображении Маркса и казалось ему самим выражением идеальной человечности, что досуг традиционно понимался как ????? и otium, т. е. жизнь, посвященная целям, более высоким, чем работа или политика.
Сам Маркс воспринимал свою так называемую утопию всего-навсего как предсказание; и действительно, в этой своей части его теория согласуется с определенными тенденциями, которые стали хорошо заметны лишь в наше время. Правление в старом смысле слова во многих отношениях уступило место административному руководству, а количество досуга, которым располагают массы, действительно постоянно растет во всех индустриализованных странах. Маркс ясно почувствовал определенные тенденции, присущие эпохе, начало которой дала промышленная революция, но ошибся, предположив, что эти тенденции смогут закрепиться только при условии обобществления средств производства. Власть традиции над его умом проявлялась в том, что эти тенденции виделись ему в идеализированном свете и осмыслялись им в терминах и понятиях, уходящих корнями в совершенно другой исторический период. Это помешало ему увидеть специфические и крайне непростые проблемы, присущие современному миру, и придало его метким предсказаниям их утопический характер. Но утопический идеал бесклассового, безгосударственного и нетрудящегося общества родился в результате бракосочетания двух совершенно неутопических составляющих: С одной стороны, Маркс наблюдал определенные тенденции, которые уже нельзя было понять, оставаясь в рамках традиции, а с другой стороны, он осмыслил и систематизировал их посредством традиционных понятий и идеалов.
Отношение самого Маркса к традиции политической мысли – сознательный бунт. И поэтому в вызывающей и парадоксальной манере он сформулировал несколько положений, которые, заключая в себе его политическую философию, лежат в основании сугубо научной части его работы и тем самым вне ее (и любопытно, что они оставались неизменными на протяжении всей его жизни, начиная с ранних произведений и заканчивая последним томом «Капитала»). Ключевые среди них следующие: «Труд создал человека» (согласно формулировке Энгельса, который, вопреки мнению, расхожему среди некоторых исследователей Маркса, обычно передавал его мысль адекватно и емко)[7 - Это положение звучит в эссе Энгельса «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека» (Marx K., Engels F. Selected Works, London, 1950, vol. II, p. 74). Сходные формулировки у самого Маркса см. особенно в: Die heilige Familie; Nationalokonomie und Philosophic, Jugendschriften, Stuttgart, 1953.]. «Насилие – повивальная бабка каждого старого общества, беременного новым»; следовательно, насилие – повивальная бабка истории (идея, звучащая во множестве вариаций в сочинениях как Маркса, так и Энгельса)[8 - Цит. по: Capital. Modern Library Edition, p. 824.]. Наконец, знаменитый последний тезис о Фейербахе: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его», который в свете марксовской мысли уместнее было бы передать так: «Философы уже достаточно долго объясняли мир; пришло время его изменить». Ведь это последнее положение на самом деле лишь вариация другого, звучащего в одной из ранних рукописей: «Вы не можете aufheben [т. е. поднять, сохранить и снять в гегелевском смысле] философию, не осуществив ее». В более поздних работах то же отношение к философии проявляется в предсказании, что рабочий класс будет единственным законным наследником классической философии.
Но одно из этих положений не может быть понято само по себе. Каждое приобретает значение за счет того, что противоречит какой-нибудь традиционно принятой истине, не подлежавшей сомнению вплоть до начала Нового времени. «Труд создал человека» означает, во-первых, что человека создал труд, а не Бог; во-вторых, что человек, если говорить именно о его человеческой стороне, создает себя сам, что его человечность – результат его собственной деятельности; в-третьих, что черта, отличающая человека от животного, его differentia specifica, это не разум, а труд, что человек суть не animal rationale, а animal laborans; в-четвертых, что человечность человека заключена не в разуме, до того времени считавшемся высшим человеческим атрибутом, а в труде, традиционно самой презираемой человеческой деятельности. Тем самым Маркс бросает вызов традиционному Богу, традиционной оценке труда и традиционному прославлению разума.
То, что насилие – повивальная бабка истории, означает, что скрытые силы, увеличивающие человеческую производительность в той мере, в какой они зависят от свободного и сознательного человеческого действия, обнаруживают себя только благодаря насилию войн и революций. Только лишь в эти насильственные периоды история показывает свое истинное лицо и разгоняет туман лицемерных, попросту идеологических разговоров. И вновь очевиден вызов, бросаемый традиции. Насилие традиционно считалось ultima ratio в отношениях между странами и самым позорным из приемов внутренней политики, отличительной чертой тирании. (Немногие попытки смыть с насилия пятно позора, главным образом попытки Макиавелли и Гоббса, имеют прямое отношение к проблеме власти и проливают немало света на раннее смешивание понятий власти и насилия, но на традицию политической мысли, предшествовавшую нашему времени, они оказали удивительно мало влияния.) Для Маркса, наоборот, все формы правления покоятся на насилии или, вернее, на обладании средствами насилия. Государство – это орудие правящего класса, с помощью которого он угнетает и эксплуатирует, и применение насилия характерно для всей сферы политического действия.
Отождествив действие с насилием, Маркс неявно бросил традиции еще один принципиальный вызов. Возможно, этот вызов не так обращает на себя внимание, как прочие, но Маркс, очень хорошо знавший Аристотеля, наверняка понимал, что делает. Двойное аристотелевское определение человека как ???? ????????? и ???? ????? ????, существа, достигающего своей высшей возможности в речевом общении и в полисной жизни, предназначалось для того, чтобы отличить грека от варвара и свободного человека от раба. Отличие было в том, что греки, живя вместе в полисе, вели дела средствами речи и убеждения (???????), а не насилия – немого принуждения. Именно поэтому когда свободные люди подчинялись своему правительству или законам полиса, их подчинение называлось ?????????, словом, ясно указывающим на то, что подчинение достигалось убеждением, а не силой. Варварами правили с помощью насилия, рабов же заставляли трудиться, а поскольку насильственное действие и тяжкий труд сходны в том, что не требуют речи, чтобы быть эффективными, варвары и рабы были ???? ?????, т. е. их коллективная жизнь не основывалась преимущественно на речи. Труд был для греков по своей сути неполитическим, частным делом, но насилие касалось других людей, через него с ними устанавливался контакт, пусть и негативный. Вот почему когда Маркс превозносит насилие, он, кроме того, непосредственно отрицает ?????, речь, диаметрально противоположную и, если следовать традиции, самую человечную форму взаимоотношений. За марксовской теорией идеологических надстроек стоит в конечном счете эта антитрадиционная враждебность к речи и, соответственно, превознесение насилия.
Для традиционной философии идея «осуществить философию» или изменить мир в соответствии с философией была бы самопротиворечивой; положение же Маркса подразумевает, что изменению предшествует объяснение, т. е. что своим объяснением мира философ указал, как его надо изменить. Может быть, философия и предписывала определенные правила поступков, хотя ни один великий философ никогда не считал это своей главной заботой. По существу, философия от Платона до Гегеля была «не от мира сего»: скажем, Платон описывал философа как человека, который лишь телом живет в городе своих сограждан, а Гегель допускал, что с точки зрения здравого смысла философия – это мир, поставленный «на голову», verkehrte Welt. Вызов традиции (на сей раз не скрытый, а прямо выраженный в марксовском положении) заключается в предсказании, что мир общих людям дел, где мы ориентируемся и размышляем, полагаясь на общее чувство (common sense), однажды станет тождествен царству идей, в котором вращается философ, – иными словами, философия, которая всегда была только «для немногих», однажды станет действительностью и здравым смыслом для каждого.
Эти три положения выражены в традиционных терминах, которые они, однако, подрывают; сформулированные как парадоксы, положения призваны нас шокировать. На самом деле они еще более парадоксальны и привели Маркса к еще большим трудностям, чем он ожидал. В каждом положении содержится одно фундаментальное противоречие, в понятийной системе самого Маркса оставшееся неразрешимым. Если труд – самая человечная и самая продуктивная деятельность человека, то что же произойдет, когда после революции «труд будет упразднен» в «царстве свободы», когда человек успешно себя от него освободит? Какая продуктивная в корне человечная деятельность останется? Если насилие – повивальная бабка истории, а насильственное действие, следовательно, обладает наибольшим достоинством среди всех форм человеческого действия, то что же будет, когда после завершения классовой борьбы и исчезновения государства никакое насилие будет уже невозможно? Как вообще люди смогут совершать подлинные, осмысленные поступки? Наконец, когда в обществе будущего философия будет одновременно осуществлена и упразднена, что за мышление останется?
Случаи непоследовательности Маркса хорошо известны и отмечены почти всеми его исследователями. Обычно их сводят к расхождениям «между научной точкой зрения историка и моральной точкой зрения пророка» (Эдмунд Уилсон), между историком, видевшим в накоплении капитала «материальное средство роста производительных сил» (Маркс), и моралистом, винившим тех, кто выполняет эту «историческую задачу» (Маркс), в том, что они эксплуатируют человека и лишают его людского облика. Эта и подобные непоследовательности незначительны по сравнению с фундаментальным противоречием между превознесением труда и действия (в противовес созерцанию и мысли) и идеалом безгосударственного общества, т. е. такого, где не совершаются поступки и (почти) нет труда. Ведь его нельзя ни списать на естественную разницу между революционно настроенным молодым Марксом и историком, экономистом, которым он стал позднее; ни разрешить, допустив диалектическое движение, которому требуется негативное – зло, чтобы породить позитивное – добро.
Такие фундаментальные и вопиющие противоречия редко встречаются у второсортных авторов, у которых их в любом случае можно не брать в расчет. В работах великих авторов они ведут к самому сердцу всей их работы и являются самым важным ключом к подлинному пониманию стоящих перед ними проблем и их новаторских догадок. У Маркса, как и других великих авторов предыдущего столетия, за вроде бы несерьезным, парадоксальным и провокационным тоном скрывается трудность изучения новых феноменов на языке старой мыслительной традиции, вне понятийного аппарата которой, как тогда казалось, вообще невозможно никакое мышление. Маркс (как, впрочем, и Кьеркегор, и Ницше) словно отчаянно пытался мыслить наперекор традиции, пользуясь ее же понятийными инструментами. Наша традиция политической мысли началась тогда, когда Платон обнаружил, что философский опыт, так или иначе, предполагает необходимость отвернуться от общего мира человеческих дел; она закончилась, когда от этого опыта не осталось ничего, кроме противопоставления мышления и действия, что лишило мысль действительности, а действие смысла сделало бессмысленным и то и другое.
II
Сила этой традиции, ее власть над мышлением западного человека, никогда не зависела от того, осознавал ли он ее. Действительно, лишь дважды в нашей истории мы встречаем такие периоды, когда люди осознавали, даже слишком акцентированно, наличие традиции и отождествляли возраст как таковой с авторитетом. Во-первых, так было, когда римляне приняли классическую греческую мысль и культуру как свою собственную и тем самым исторически предрешили, что традиция будет оказывать постоянное формообразующее влияние на европейскую цивилизацию. До римлян такая вещь, как традиция, была неизвестна; с их приходом и после них она стала путеводной нитью в прошлом и цепью, к которой каждое поколение, ведая о том или нет, было приковано в своем понимании мира и своего собственного опыта. Вплоть до периода романтизма мы не сталкиваемся больше с обостренным осознанием и превознесением традиции. (Открытие античности в эпоху Возрождения было первой попыткой порвать оковы традиции и, вернувшись к самим истокам, учредить такое прошлое, над которым традиция не имела бы власти.) Сегодня традиция иногда считается, по существу, романтическим понятием, но романтики всего лишь поставили традицию на повестку XIX века. Своим превознесением традиции они лишь помогли отметить момент перед тем, как Новое время изменило наш мир и общую обстановку до такой степени, что полагаться на традицию как на что-то само собой разумеющееся стало уже невозможно.
Конец традиции не означает с необходимостью, что традиционные понятия утратили власть над умами людей. Наоборот, иногда кажется, что эта власть заношенных понятий и категорий становится все более тиранической по мере того, как традиция теряет свою живую силу, а память о ее начале стирается. Может даже получиться так, что она обнаружит всю свою принуждающую силу только теперь, когда пришел ее конец и люди больше против нее не бунтуют. Во всяком случае, именно такой урок, похоже, можно вынести из распространения в XX веке формалистически-логического мышления, случившегося после того, как Кьеркегор, Маркс и Ницше бросили вызов основополагающим предпосылкам традиционной религии, традиционной политической мысли и традиционной метафизики, сознательно перевернув традиционную иерархию понятий. Однако на самом деле не бунт XIX века против традиции и не наступившие в XX веке последствия вызвали перелом в нашей истории. Этот перелом стал результатом массовой растерянности на политической сцене и хаотических массовых мнений в духовной сфере, из которого тоталитарные движения посредством террора и идеологии выкристаллизовали новую форму правления и господства. Тоталитарное господство – это такой факт, который в силу его беспримерности нельзя постичь в обычных категориях политической мысли; о «преступлениях» тоталитаризма нельзя судить по традиционным нравственным меркам, их невозможно наказать в рамках правовой системы нашей цивилизации. Именно поэтому появление тоталитаризма нарушило преемственность западной истории. Ныне слом нашей традиции – свершившийся факт. Это не результат чьего-то намеренного выбора и не что-то такое, о чем еще только предстоит принять решение.
Ханна Арендт
В сборник вошли философские эссе, написанные в 50?е и 60?е годы ХХ века. Арендт рассуждает о роли, которую понятия «традиции», «религии» и «авторитета» играли в политическом и историческом самовосприятии европейцев со времен Древнего Рима. Констатируя распад того единства, которое эти понятия образовывали вплоть до Нового времени, Арендт исследует последствия этого распада для разных областей человеческой жизни – воспитания, политики, культуры. Свои эссе Арендт преподносит как «упражнения в политической мысли», как попытки научиться мыслить в мире, в котором традиционные понятия и представления больше не могут служить нам опорой.
В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
Ханна Арендт
Между прошлым и будущим. Восемь упражнений в политической мысли
Hannah Arendt
Between Past and Future Eight exercises in political thought
© Hannah Arendt, 1954, 1956, 1958, 1960, 1961, 1963, 1967, 1968
© Издательство Института Гайдара, 2014
Генриху, после двадцати пяти лет
Предисловие: Брешь между прошлым и будущим
Notre heritage n'est prеcеdе d'aucun testament («Наше наследство досталось нам без завещания») – возможно, страннейший из всех странных своей отрывочностью афоризмов, в которые французский поэт и писатель Рене Шар уместил суть того, что четыре года в rеsistance стали означать для целого поколения европейских писателей и литераторов[1 - Эту и последующие цитаты см. в: Char R. Feuillets d'Hypnos, Paris, 1946. Эти афоризмы, написанные в 1943 и 1944 гг., в последние годы Сопротивления, и опубликованные в Collection Espoir под редакцией Альберта Камю, вышли на английском языке вместе с более поздними вещами под заголовком Hypnos Waking; Poems and Prose. (New York, 1956).]. С разгромом Франции, ставшим для них полной неожиданностью, политическая сцена их страны внезапно опустела: ее оставили шутам-марионеткам и дуракам; и те, само собой никогда не участвовавшие в официальных делах Третьей республики, заполнили ее, словно втянутые вакуумом. Таким образом, без всякого предостережения и, вероятно, вопреки своим сознательным наклонностям, они волей-неволей образовали такое публичное пространство, где – без каких-либо бюрократических принадлежностей и втайне от друзей и врагов – все, что имело отношение к делам страны, выполнялось с помощью слова и дела.
Долго это не продолжалось. Их освободили от того, что они с самого начала считали «бременем», и вернули к их личным делам (которые, как они теперь знали, невесомы, поскольку ни к чему не относятся), снова отделенным от «мира действительности» с помощью еpaisseur triste, «печальной непроницаемости» частной жизни, сосредоточенной лишь вокруг себя самой. А если они отказывались «возвратиться к тому, с чего начинали, – к своему самому жалкому образу жизни», то им оставалось лишь вернуться к старой бессодержательной схватке конфликтующих идеологий, которая после победы над общим врагом снова охватила политическую арену, расколола прежних товарищей по оружию на бесчисленные клики (даже не на фракции) и втянула их в бесконечные полемики и интриги газетной войны. Случилось то, что Шар предвидел, ясно предчувствовал еще тогда, когда продолжалась настоящая война: «Я знаю, что, если выживу, мне придется расстаться с ароматом этих самых важных лет, отпустить (но не растоптать) свое сокровище». Они лишились своего сокровища.
Что это было за сокровище? Похоже, в их собственном понимании оно состояло как бы из двух взаимосвязанных частей: они обнаружили, что тот, кто «присоединялся к Сопротивлению, находил себя», что для него заканчивались «искания [себя], без всякого покровительства и от одной только неудовлетворенности», что он переставал подозревать себя в «неискренности», в том, что он «брюзгливый и подозрительный актер жизни», что он мог позволить себе «обнажиться». Именно нагими, лишенными всех масок, – как тех, которыми общество наделяет своих членов, так и тех, которые создает для себя сам индивид, реагируя на общество, – их впервые в жизни неожиданно посетил призрак свободы. Разумеется, не потому, что они боролись против тирании и еще более страшных вещей (то же самое можно сказать про каждого солдата союзных войск), а потому, что они «бросили вызов», взяли инициативу в свои руки и тем самым, сами того не зная и не замечая, начали создавать между собой то публичное пространство, где свобода могла быть явлена. «Свобода приглашена к каждой нашей совместной трапезе. Кресло пустует, но место накрыто».
Участники европейского Сопротивления – не первые и не последние, кто потерял свое сокровище. Историю революций (в которой, что касается политики, раскрывается самая суть истории о Новом времени), начиная с лета 1776-го в Филадельфии и лета 1789-го в Париже и заканчивая осенью 1956-го в Будапеште, можно иносказательно представить в виде рассказа о древнем сокровище, которое вдруг появляется при самых разнообразных обстоятельствах, а потом при столь же загадочных обстоятельствах снова исчезает словно фата-моргана. Конечно, есть много веских причин считать, что это сокровище всегда было миражом, а не реальностью и что мы имеем здесь дело не с чем-то материальным, а с призраком (одна из самых веских причин – тот факт, что это сокровище до сих пор так и не получило названия). Существует ли нечто, не в открытом космосе, а в нашем мире, среди человеческих дел, если у него нет даже названия? Единороги и сказочные принцессы и то кажутся более реальными, чем потерянное сокровище революций. И тем не менее если мы обратим взоры к началу этой эпохи, а особенно к предшествовавшим ей десятилетиям, то можем увидеть, что в XVIII веке по обе стороны Атлантики у этого сокровища было название – давно уже забытое и, возникает искушение сказать, утраченное еще до того, как исчезло само сокровище. В Америке оно называлось «публичное счастье», и это выражение с его коннотациями «добродетели» и «славы» мы едва ли понимаем лучше, чем французский аналог, «публичную свободу». Трудность для нас в том, что в обоих случаях ударение падало на слово «публичный».
Как бы то ни было, именно безымянность этого сокровища имеет в виду поэт, когда говорит, что наше наследство досталось нам без завещания. Завещание, сообщая наследнику, что будет его по праву, передает прошлое имущество будущему. Без завещания или, расшифруем метафору, без традиции (которая выбирает и называет, передает через поколения и сохраняет, указывает, где сокровища и какова их ценность) нет, по-видимому, никакой основанной на вручении преемственности во времени, и, следовательно, с точки зрения человека, нет ни прошлого, ни будущего, а только вечно меняющийся мир и круговой жизненный цикл обитающих в нем созданий. Таким образом, сокровище было потеряно не из-за исторических обстоятельств или неблагоприятной действительности, а потому что никакая традиция не предвосхитила его появление, или его действительность, и никакое завещание не вручило его будущему. Во всяком случае, эта потеря, которая, быть может, и стала неизбежной в силу политической действительности, была довершена забвением, провалами в памяти, постигшими не только наследников, но и действующих лиц, свидетелей, тех, у кого сокровище на краткий миг оказалось в ладонях рук, короче, самих живших тогда. Ведь память, которая является лишь одним из модусов мышления (хотя и одним из самых важных), беспомощна вне какого-то уже сформированного контекста, а человеческий ум только в редчайших случаях способен помнить нечто, совсем ни с чем не связанное. Таким образом, первыми, кто не сумел запомнить, на что походило это сокровище, были именно те, кто обладал им и нашел его настолько странным, что даже не знал, как его назвать. Тогда их это не беспокоило; пусть они и не знали своего сокровища, они достаточно хорошо знали смысл того, что делали, и знали, что он не сводится к тому, победят они или потерпят поражение: «Действие, имеющее смысл для живых, имеет ценность только для мертвых, завершение лишь в умах, которые наследуют его и ставят под вопрос». Трагедия началась не тогда, когда освобождение страны в целом уничтожило, почти автоматически, маленькие скрытые островки свободы, которые в любом случае были обречены, а когда не нашлось ума, который унаследовал бы и ставил под вопрос, помнил бы и размышлял. Суть в том, что «завершение», которое, вообще говоря, каждое разыгрывающееся событие должно получить в умах тех, кто будет потом рассказывать его историю и передавать его смысл, ускользнуло от них. Акт не получил завершения в мышлении, не был схвачен в воспоминании, а потому, когда все кончилось, просто не осталось никакой истории, которую можно было рассказывать.
В этой ситуации нет ничего абсолютно нового. Нам слишком хорошо знакомы периодически повторяющиеся вспышки неистовой озлобленности на разум, мышление и рациональное рассуждение. Такова естественная реакция людей, которые на собственном опыте знают, что мысль и действительность разошлись путями, что действительность стала непроницаемой для света мысли, а мысль, больше не привязанная к происходящему подобно тому, как окружность привязана к своему центру, зачастую либо становится совсем бессмысленной, либо начинает пережевывать старые истины, уже давно ни к чему определенному не относящиеся. Даже предвидение этого тяжелого положения стало к настоящему моменту чем-то хорошо знакомым. Когда Токвиль вернулся из Нового Света, который он сумел описать и подвергнуть анализу настолько блестяще, что его работа осталась классикой и пережила более века радикальных перемен, он вполне осознавал, что и от него ускользнуло то, что Шар позже назвал «завершением» акта и события. Цитата Шара: «Наше наследство досталось нам без завещания» – звучит словно вариация слов Токвиля: «Прошлое не озаряет светом будущее, и ум человека бредет во тьме»[2 - Цитата из последней главы «Демократии в Америке» [Токвиль. Демократия в Америке, М.: Прогресс, 1992; перевод изменен. – Примеч. пер.]. Полностью она выглядит так: «Несмотря на то что революция, совершающаяся в общественном устройстве, законодательстве, воззрениях и чувствах людей, еще далека от своего завершения, уже сейчас невозможно сопоставить результаты ее деяний с тем, что мир видел ранее. Погружаясь век за веком в глубины истории вплоть до самой ранней античности, я не обнаруживаю ничего, что могло бы соответствовать современному миру. Прошлое не озаряет светом будущее, и ум человека бредет во тьме».]. И все-таки единственное точное описание этого тяжелого положения, насколько я знаю, содержится в одной из тех притч Кафки, которые – и это, возможно, уникальное в литературе явление – суть настоящие ?????????, падающие параллельно происходящему и вокруг него как лучи света, которые, однако, не освящают его внешний облик, а подобно рентгеновским лучам обнажают его внутреннюю структуру, которую в нашем случае составляют скрытые процессы ума.
Притча Кафки такова[3 - Эта история завершает серию «Записи 1920 года» и носит заглавие «Он». В этой стране она вышла в сборнике The Great Wall of China. (New York, 1946, trans. by Willa and Edwin Muir). [На русском языке см.: Кафка Ф. Афоризмы, М.: АСТ, 2007; перевод изменен. – Примеч. пер.] Я следовала английскому переводу везде, кроме нескольких мест, где мне необходим был более дословный перевод. Немецкий оригинал, который можно найти в 5-м томе Gesammelte Schriften (New York, 1946), выглядит так: «Er hat zwei Gegner: Der erste bedr?ngt ihn von hinten, vom Ursprung her. Der zweite verwehrt ihm den Weg nach vorn. Er k?mpft mit beiden. Eigentlich unterst?tzt ihn der erste im Kampf mit dem Zweiten, denn er will ihn nach vorn dr?ngen und ebenso unterst?tzt ihn der zweite im Kampf mit dem Ersten; denn er treibt ihn doch zur?ck. So ist es aber nur theoretisch. Denn es sind ja nicht nur die zwei Gegner da, sondern auch noch er selbst, und wer kennt eigentlich seine Absichten? Immerhin ist es sein Traum, dass er einmal in einem unbewachten Augenblick dazu geh?rt allerdings eine Nacht, so finster wie noch keine war aus der Kampflinie ausspringt und wegen seiner Kampfeserfahrung zum Richter ?ber seine miteinander k?mpfenden Gegner erhoben wird».]:
У него два противника. Первый теснит его сзади, со стороны истока. Второй преграждает ему путь вперед. Он борется с обоими. Конечно, первый поддерживает его в борьбе со вторым, ибо хочет протолкнуть его вперед, и так же поддерживает его второй в борьбе с первым, ибо отталкивает его назад. Но это только в теории. Ведь есть не только эти два противника, но есть еще и он сам, а кто, собственно, знает его намерения? Тем не менее он мечтает о том, что когда-нибудь, украдкой – для этого, конечно, нужна такая темная ночь, какой еще не было, – он соскочит с линии боя и благодаря своему боевому опыту будет поставлен рефери над своими борющимися друг с другом противниками.
Происшествие, о котором рассказывает эта притча, следует, по внутренней логике предмета, за событиями, суть которых мы нашли выраженной в афоризме Рене Шара. По большому счету оно начинается именно там, где афоризм, с которого начались наши рассуждения, оставляет череду событий, так сказать, висеть в воздухе. Кафкианская борьба начинается тогда, когда действие достигло своего окончания, и появившаяся в результате история ждет того, чтобы найти завершение «в умах, которые унаследуют его и будут ставить его под вопрос». Задача ума – понять, что произошло, и это понимание есть, по Гегелю, способ, каким человек примиряет себя с действительностью; его настоящая цель – быть в ладу с миром. Беда в том, что, если ум не способен принести примирение, он сразу оказывается втянут в свою, особую войну.
Однако исторически этой стадии эволюции современного ума предшествовал, по крайней мере в XX веке, не один, а два акта. Перед тем как поколению Рене Шара, которого мы выбрали здесь его представителем, пришлось оставить занятия литературой, потому что настало время действовать, другое поколение, лишь немного старше, обратилось к политике за решением философских проблем и попыталось сбежать из сферы мышления в сферу действия. Именно люди этого старшего поколения позже стали выразителями и создателями того, что сами они назвали экзистенциализмом; ведь экзистенциализм, по крайней мере в его французской версии, это прежде всего бегство от трудностей современной философии к слепой приверженности действию. И поскольку в обстоятельствах XX века так называемые интеллектуалы – писатели, мыслители, художники, литераторы и прочие – могли получить доступ в публичную сферу только во времена революций, революция стала, как однажды заметил Мальро (в «Уделе человеческом»), играть «роль, которую когда-то играла вечная жизнь»: она «спасает тех, кто ее делает». Экзистенциализм, бунт философа против философии, возник не тогда, когда философия оказалась неспособной применить свои правила к сфере политических дел (эту неудачу политическая философия, как ее понимал бы Платон, потерпела еще почти на заре западной философии и метафизики), и даже не тогда, когда оказалось, что и с задачей, поставленной перед ней Гегелем, философия тоже не справляется, – а именно понять и осмыслить в понятиях историческую действительность и события, сделавшие современный мир таким, какой он есть. Ситуация стала безнадежной, когда было показано, что старые метафизические вопросы бессмысленны; т. е. когда до современного человека стало доходить, что он живет теперь в таком мире, где его ум и его традиция мысли не в состоянии даже задать адекватные, осмысленные вопросы, не говоря уже о том, чтобы дать ответы и разрешить собственные проблемы. В этом тяжелом положении действие, коль скоро оно подразумевает вовлеченность и верность, коль скоро оно engagеe[4 - Привержено определенной моральной или политической позиции (фр.). – Примеч. пер.], казалось, дает надежду пусть и не решить проблемы, но жить с ними, не становясь, как однажды выразился Сартр, salaud, лицемером.
Обнаружение того, что человеческий ум по каким-то загадочным причинам пришел в неисправность, составляет, так сказать, первый акт той истории, которую мы здесь пытаемся рассказать. Я упомянула о нем, хотя и коротко, потому что иначе мы не поняли бы особой иронии того, что последовало дальше. Рене Шар, писавший в последние месяцы Сопротивления, когда освобождение (означающее для нас освобождение от действия) уже ясно маячило впереди, подытожил свои размышления призывом мыслить, обращенным к тем, кто переживет войну, не менее страстным и настойчивым, чем призыв его предшественников действовать. Если бы надо было написать интеллектуальную историю нашего века не в форме истории сменяющих друг друга поколений, требующей от историка в буквальном смысле быть верным последовательности теорий и подходов, а в форме биографии отдельной личности, претендуя лишь на метафорическое приближение к тому, что в действительности происходило в умах людей, обнаружилось бы, что этот человек был вынужден духовно вернуться к тому, с чего начинал, не один, а два раза: первый раз, когда он бежал от мышления к действию, и второй – когда действие, вернее, то, что он его совершил, заставило его вернуться к мышлению. При этом стоит заметить, что упомянутый призыв мыслить раздался в тот странный промежуточный период, который порой вклинивается в историческое время, – период, когда не только позднейшие историки, но и действующие лица и свидетели, сами живущие, понимают, что имеют дело с интервалом времени, полностью определенным тем, чего уже нет, и тем, что еще не наступило. В истории такие интервалы не раз показывали, что могут нести в себе момент истины.
Теперь мы можем вернуться к Кафке, который в логике этого предмета, хотя и не в его хронологии, занимает последнюю и, так сказать, самую продвинутую позицию. (Загадка Кафки, который за более чем тридцать пять лет растущей посмертной славы утвердился как один из самых выдающихся писателей, как всем писателям писатель, до сих пор не разгадана. Прежде всего эта загадка в том, что он каким-то поразительным образом перевернул устоявшиеся отношения между переживанием (experience) и мышлением. Мы привыкли связывать богатство деталей и драматичность действия с переживанием придуманной действительности, а интеллектуальным процессам приписывать абстрактную бледность, которую считаем платой за их точность и упорядоченность. Кафка же одной только силой интеллекта и воображения создал из ничтожного, «абстрактного» минимума переживаний такой интеллектуальный ландшафт, в котором без потери точности нашлось место для всего богатства, всего разнообразия и всей драматичности, свойственных «реальной» жизни. Поскольку мышление было для него самой важной и самой живой частью действительности, он развил в себе тот необъяснимый дар предвидения, который даже сегодня, по прошествии сорока лет, полных беспрецедентными и непредсказуемыми событиями, не перестает нас восхищать.) В этой предельно краткой и простой истории рассказывается об интеллектуальном феномене, о чем-то таком, что можно назвать событием мышления. Сценой выступает поле битвы, на котором сталкиваются силы прошлого и будущего; между ними мы видим человека, которого Кафка называет «он» и который, если он хочет хотя бы удержать свои позиции, должен дать бой обеим силам. Таким образом, одновременно происходит два или даже три сражения: сражение между «его» противниками и сражение человека посередине с каждым из них. Однако похоже, что кто-то вообще с кем-то сражается только благодаря наличию человека, без которого, можно подозревать, силы прошлого и будущего уже давно либо нейтрализовали бы друг друга, либо уничтожили.
Первым делом надо заметить, что не только будущее («волна будущего»), но и прошлое рассматривается как сила, а не в духе всех наших метафор, как бремя, которое человеку приходится на себя брать и от мертвого груза которого живущие могут или даже должны избавиться по мере своего марша в будущее. Выражаясь словами Фолкнера, «прошлое не умирает, оно даже не проходит». Кроме того, это прошлое, простираясь до самого истока, не тянет назад, а толкает вперед, тогда как именно будущее, вопреки тому что можно было бы ожидать, теснит нас назад в прошлое. С точки зрения человека, всегда живущего в интервале между прошлым и будущим, время – это не континуум, не поток непрерывной смены происходящего; оно сломано посередине, в том месте, где «он» стоит; и это «его» местоположение – не настоящее, как мы обычно его воспринимаем, а, скорее, брешь во времени, существование которой поддерживается «его» непрерывной борьбой, «его» сопротивлением прошлому и будущему. Только потому, что в ход времени внедряется человек, и только в той мере, в какой он удерживает свои позиции, поток безразличного времени разбивается на грамматические времена; именно это внедрение – начало начала, говоря на языке Августина, – раскалывает временной континуум на силы, которые, поскольку они сфокусированы на частице или теле (которое задает им направление) начинают затем биться друг с другом и действовать на человека так, как это описывает Кафка.
Думаю, можно сделать еще шаг, не исказив того, что имел в виду Кафка. Он показывает, как внедрение человека кладет конец однонаправленному потоку времени, но, как ни странно, не меняет традиционного образа времени как движущегося по прямой линии. Поскольку Кафка сохраняет традиционную метафору прямолинейного движения времени, «ему» едва хватает места, чтобы стоять; и всякий раз, стоит ему подумать о том, чтобы нанести собственный удар, «он» принимается мечтать об области над линией боя, выше нее, – а разве эта мечта не есть нечто иное, как старая мечта западной метафизики от Парменида до Гегеля о вневременной, непространственной, сверхчувственной сфере как области, подобающей мышлению? Очевидно, чего не хватает в кафкианском описании события мышления, так это какого-то пространственного измерения, где мышление могло бы идти в ход, не сталкиваясь с необходимостью вовсе выскакивать из человеческого времени. Проблема кафкианской истории при всем ее великолепии в том, что едва ли можно сохранить понятие о прямолинейном движении времени, если его однонаправленный поток разбивается на противоборствующие силы, направленные и действующие на человека. Внедрение человека, ломающего континуум, не может не заставить эти силы отклониться, хотя бы слегка, от своего первоначального направления, и если бы это произошло, они не сталкивались бы больше лоб в лоб, а сходились бы под углом. Другими словами, брешь, где «он» стоит, – это, по крайней мере потенциально, не просто интервал, скорее она напоминает то, что физики называют параллелограммом сил.
В идеале действие двух сил, которые образуют параллелограмм сил, ставший для кафкианского «него» полем битвы, вылилось бы в третью силу, результирующую диагональ, которая исходила бы из точки, в которой те две силы сталкиваются и на которую они действуют. Эта диагональная сила в одном отношении отличалась бы от тех двух сил, результатом которых стала. Две противоборствующие силы безграничны в своем истоке: одна идет из бесконечного прошлого, а другая – из бесконечного будущего, однако, не имея известного начала, они имеют абсолютный конец, точку, где они сталкиваются. Диагональная сила, напротив, была бы ограничена в своем истоке: ее стартовая точка – место столкновения противоборствующих сил, зато она не имела бы точки окончания, поскольку возникла из совместного действия двух сил, исток которых – бесконечность. Эта диагональная сила, исток которой известен, направленность которой определена прошлым и будущим, но конечная точка которой теряется в бесконечности, – идеальная метафора деятельности мышления. Если бы кафкианский «он» смог приложить свои силы по этой диагонали, в точном равноудалении от прошлого и будущего, так сказать, прогуливаясь туда-сюда вдоль этой диагональной линии медленными, упорядоченными шагами, которые лучше всего подходят для хода мысли, он не соскочил бы с линии боя и не оказался бы над схваткой, как того требует притча, – ведь эта диагональ, хотя и направлена в бесконечность, остается привязана к настоящему и укорена в нем. Вместо этого он открыл бы, – теснимый, как и прежде, своими противниками в единственном направлении, откуда он может видеть и изучать то, что имеет к нему самое близкое отношение, то, что возникло лишь с его собственным самовнедряющимся появлением, – огромное, постоянно меняющееся пространство-время, созданное и ограниченное силами прошлого и будущего. Он нашел бы во времени место, достаточно удаленное от прошлого и будущего, чтобы рефери было откуда беспристрастно судить борющиеся друг с другом силы.
Но велико искушение сказать, что все это так «только в теории». Куда более вероятно (и в других своих притчах и историях Кафка часто описывал такое развитие событий), что «он», не способный отыскать диагональ, которая увела бы его с линии боя в пространство, идеально сформированное параллелограммом сил, «умрет от истощения», обессилев от непрерывной борьбы, позабыв свои первоначальные намерения и осознавая лишь существование бреши во времени, которая, покуда он жив, остается почвой, на которой ему надо стоять, хотя и кажется полем битвы, а не домом.
Во избежание непонимания: образы, которые я здесь использую, чтобы метафорически, эскизно обозначить условия, в которых сегодня находится мышление, могут иметь силу только в сфере интеллектуальных феноменов. Применительно к историческому или биографическому времени ни одна из этих метафор не будет иметь никакого смысла, потому что в этом времени брешей не бывает. Только в той мере, в какой он мыслит и в какой он не имеет возраста («он», как совершенно правильно зовет его Кафка, а не «кто-то»), человек в полной актуальности своего конкретного бытия живет в этой временной бреши между прошлым и будущим. Подозреваю, что эта брешь – не современный феномен и, возможно, даже не исторический отрезок, что она существует столько же, сколько человек на Земле. Она вполне может быть областью духа или, вернее, дорогой, вымощенной мышлением, той тропинкой вневременности, которую деятельность мышления протаптывает в пространстве-времени смертных людей и где мысль, память и предвидение спасают все, чего касаются, от разрушения историческим и биографическим временем. В отличие от мира и культуры, куда мы попадаем, рождаясь, это маленькое не-время-пространство, находящееся в самом сердце времени, можно только констатировать, но нельзя унаследовать из прошлого и передать потомкам; каждое новое поколение, более того, каждое новое человеческое существо, внедряясь между бесконечным прошлым и бесконечным будущим, должно заново открыть его и старательно вымостить.
Но беда в том, что мы, похоже, не готовы и не оснащены для этой деятельности мышления, для того чтобы обосноваться в бреши между прошлым и будущим. В течение очень долгого периода нашей истории, по большому счету тысячелетий, что последовали за основанием Рима и определялись римскими понятиями, через эту брешь имелся мост, который со времен Рима мы называем традицией. Ни для кого не секрет, что в течение Нового времени этот мост все больше ветшал. Когда нить традиции наконец оборвалась, брешь между прошлым и будущим перестала быть условием, специфическим для деятельности и для опыта тех немногих, кто сделал мышление своим основным занятием. Она стала осязаемой действительностью и трудностью, с которой столкнулся каждый; иными словами, она стала фактом политического значения.
Кафка упоминает опыт – опыт борьбы, приобретаемый «им», удерживающим позиции между сталкивающимися волнами прошлого и будущего. Этот опыт есть опыт мышления (коль скоро вся притча, как мы видели, посвящена интеллектуальному феномену), а приобрести его, как и всякий опыт в каком-то деле, можно только на практике, путем упражнений. (В этом и в других отношениях этот тип мышления отличается от таких интеллектуальных процессов, как дедукция, индукция и выведение заключений, в случае которых имеются логические правила непротиворечивости и внутренней согласованности, которые можно выучить раз и навсегда, а затем надо лишь применять.) Нижеследующие восемь эссе – это именно такие упражнения, и их единственная задача – на опыте выяснить, как мыслить. В них нет предписаний к тому, о чем мыслить или каких истин придерживаться. И уж тем более я не пытаюсь в них восстановить разорванную нить традиции или изобрести какие-нибудь свежие суррогаты, которые могли бы заполнить брешь между прошлым и будущим. В этих упражнениях я оставила проблему истины в стороне и сосредоточилась исключительно на том, как передвигаться внутри бреши – возможно, в единственной области, где истина в конце концов станет явлена.
Выражаясь точнее, эти эссе – упражнения в политической мысли в том виде, в каком она вытекает из актуальных политических событий (хотя о таких событиях будет упоминаться лишь время от времени). Я исхожу из предпосылки, что мысль как таковая вытекает из событий жизненного опыта и должна сохранять связь с этими событиями как со своими единственными путеводными вехами. Поскольку место этих упражнений – между прошлым и будущим, в них входит как критика, так и эксперимент, но цель экспериментов не в том, чтобы спроектировать какое-то утопическое будущее, а задача критики прошлого и традиционных понятий не в том, чтобы «разоблачить». К тому же нет строгого разграничения между критической и экспериментальной частью этих эссе, хотя, если говорить грубо, в первых трех главах больше критического, чем экспериментального, а в последних пяти – больше экспериментального, чем критического. Я переношу акцент постепенно не потому, что мне так захотелось, ведь в критической интерпретации прошлого есть элемент эксперимента. Главная цель этой интерпретации – открыть действительные истоки традиционных понятий, чтобы заново дистиллировать их изначальный дух, который столь печальным образом испарился из ключевых слов политического языка (таких как свобода и справедливость, авторитет и разум, ответственность и добродетель, власть и слава), оставив после себя пустые оболочки, с помощью которых предлагается решать все вопросы независимо от того, какая за ними стоит феноменальная реальность.
Мне кажется, и, надеюсь, читатель согласится, что эссе как литературный жанр имеет естественное родство с теми упражнениями, которые я имею в виду. Ясно, что эта книга упражнений, подобно любому сборнику эссе, могла бы иметь больше или меньше глав, не меняя своего характера. Их единство (которое в моих глазах оправдывает то, что они издаются как книга) – это не единство целого, а единство последовательности частей, написанных, как и в музыкальных сюитах, в одной и той же тональности либо в соотносящихся друг с другом. Сама последовательность определяется содержанием. В этом отношении книга делится на три части. В первой части речь идет о современном сломе традиции и о понятии истории, которое в Новое время надеялись подставить на место понятий традиционной метафизики. Во второй части обсуждаются два центральных и взаимосвязанных политических понятия – «авторитет» и «свобода». Этой второй части потому должна предшествовать первая, что такие фундаментальные и прямые вопросы, как «Что такое авторитет?» и «Что такое свобода?», могут возникнуть у нас только в том случае, если никаких традиционных ответов на них мы не унаследовали или если эти ответы больше не имеют силы. Наконец, четыре эссе последней части представляют собой честные попытки применить мышление, опробованное в первых двух частях, к неотложным, животрепещущим проблемам, с которыми мы сталкиваемся каждый день, но, конечно, не для того, чтобы найти определенные решения, а в надежде прояснить соответствующие темы, чтобы потом увереннее иметь дело с более узкими вопросами.
Традиция и Новое время
I
Наша традиция политической мысли, определенно, берет начало в учениях Платона и Аристотеля. И не менее определенным мне представляется то, что на теории Карла Маркса она закончилась. Начало было положено, когда Платон в своем «Государстве», в аллегории пещеры описал сферу человеческих дел, – все то, что относится к коллективной жизни людей в общем мире, – как нечто темное, путаное и обманчивое, от чего должны отвернуться и бежать те, кто стремится к истинному бытию, если они хотят открыть ясное небо вечных идей. Конец пришел, когда Маркс объявил, что философия и ее истина располагаются не за пределами сферы человеческих дел и общего мира людей, а как раз в них и могут «осуществиться» только в сфере коллективной жизни (которую он назвал «общество») посредством возникновения «обобществленных людей» (vergesellschaftete Menschen). Любая политическая философия неизбежно скрывает в себе какое-то отношение философа к политике; ее традиция началась, когда философ отвернулся от политики, а затем вернулся, чтобы навязать человеческим делам свои эталоны. Конец пришел, когда философ отвернулся от философии, чтобы «осуществить» ее в политике. Именно это попытался сделать Маркс, что выразилось, во-первых, в его решении (по существу, философском) отречься от философии и, во-вторых, в его намерении «изменить мир», а значит, и философствующие умы, «сознание» людей.
Начало и окончание традиции имеют кое-что общее: никогда больше фундаментальные проблемы политики не были так ясно видны невооруженным глазом в их непосредственной и простой насущности, как тогда, когда их впервые сформулировали и когда их в последний раз попытались решить. Это начало, выражаясь словами Якоба Буркхардта, подобно «основной мелодии», звучащей в бесчисленных модуляциях на протяжении всей истории западной мысли. Только начало и конец, так сказать, чисты от модуляций; и поэтому основная мелодия никогда больше так не захватывает слушателей и не поражает их красотой, как тогда, когда впервые посылает в мир свои гармонизирующие звуки. И никогда она так не раздражает и не мучит слух, как тогда, когда продолжает звучать в мире, звучание – и мышление – которого она уже не может гармонизировать. Случайное замечание, сделанное Платоном в его последней работе: «Начало подобно богу, который спасает все вещи, пока обитает среди людей» – ???? ??? ??? ???? ?? ????????? ???????? ?????????? ?????[5 - Законы, 775e.], – верно в отношении нашей традиции; пока ее начало было живо, оно могло спасать все вещи и приводить их к гармонии. И точно так же, когда традиция подошла к концу, она стала разрушительной – не говоря уже о последовавшей неразберихе и беспомощности, в которой мы пребываем сегодня.
В философии Маркса (он не столько поставил Гегеля с головы на ноги, сколько перевернул традиционную иерархию мышления и действия, созерцания и труда, а также философии и политики) начало, положенное Платоном и Аристотелем, доказывает свою живучесть, приводя Маркса к вопиюще противоречивым утверждениям главным образом в той части его учения, которую обычно называют утопической. Наиболее важны его предсказания относительно того, что в условиях «обобществленного человечества» «государство отомрет», а производительность труда станет настолько велика, что труд так или иначе себя упразднит, и у каждого члена общества появится почти неограниченный досуг. Разумеется, эти положения не только являются предсказаниями, но и выражают марксовский идеал наилучшего общества. В этом смысле они не утопичны; скорее, в них просто воспроизводится политическая обстановка того же самого афинского города-государства, который был моделью опыта для Платона и Аристотеля и тем самым основанием, на котором покоится наша традиция. Афинский полис функционировал без разделения на тех, кто правит, и на тех, кем правят; и поэтому он не был государством в том смысле, в каком это слово употребляем мы и в каком его употреблял Маркс – в соответствии с традиционными определениями форм правления, а именно – монархии как правления одного, олигархии как правления немногих и демократии как правления большинства. К тому же афинские граждане только постольку были гражданами, поскольку имели досуг, обладали той свободой от труда, появление которой в будущем предсказывал Маркс. Не только в Афинах, но и на протяжении всей античности и вплоть до Нового времени те, кто трудился, не были гражданами. Гражданами были прежде всего те, кто не трудился или обладал чем-то большим, чем только трудоспособностью. Сходство станет еще поразительнее, если мы пристальнее посмотрим на марксовскую картину идеального общества. Предполагается, что досуг существует при отсутствии государства или в условиях, когда, согласно знаменитому высказыванию Ленина, очень точно передающему мысль Маркса, ведение общественных дел станет настолько простым, что с ним справится любая кухарка. Понятно, что в таких условиях любое занятие политикой (энгельсовское упрощенное «управление вещами») может быть интересным только для кухарки или в лучшем случае для тех «средних умов», которые, как считал Ницше, лучше всего подходят для ведения публичных дел[6 - Энгельса см.: Anti-Duhring. Zurich, 1934, p. 275. Ницше см.: Morgenr?te. Werke. M?nchen, 1954, vol. I, aph, 179. [Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 14, М.; Л., 1931, с. 263; Ницше Ф. Утренняя заря, § 179. – Примеч. пер.]]. Разумеется, это очень сильно отличается от реального положения дел в античном обществе, где, наоборот, политические обязанности считались настолько тяжелыми и требовавшими столько времени, что нельзя было допустить, чтобы те, на кого они возложены, занимались какой-либо утомительной деятельностью. (Так, например, гражданином мог быть пастух, но не крестьянин; живописец еще признавался кем-то большим, чем ????????, но скульптор – уже нет. В каждом случае критерием были попросту затрачиваемые усилия.) Именно против отнимавшей много времени политической жизни типичного зрелого гражданина греческого полиса выдвинули философы (особенно Аристотель) свой идеал ?????, досуга. В античности досуг означал не свободу от обычного труда, которая разумелась сама собой, а время, свободное от политической деятельности и государственных дел.
В марксовском идеальном обществе эти два разных понятия нерасторжимо слиты: в бесклассовом, безгосударственном обществе неким образом реализуются общеантичные условия для досуга в смысле возможности не трудиться, а заодно и для досуга в смысле возможности не заниматься политикой. Это, как предполагается, должно произойти, когда «управление вещами» придет на смену правительству и политическому действию. Такой двоякий досуг, необремененность ни трудом, ни политикой, был для философов условием ???? ??????????, жизни, посвященной философии и знанию в самом широком смысле слова. Другими словами, ленинская кухарка живет в обществе, которое предоставляет ей столько же досуга в смысле возможности не трудиться, сколько имели античные граждане, чтобы посвящать свои жизни ????????????, и вдобавок столько же досуга в смысле возможности не заниматься политикой, сколько греческие философы требовали для немногих, желавших посвящать все свое время философствованию. Сочетание безгосударственного (аполитического) и почти не трудящегося общества потому так ясно маячило в воображении Маркса и казалось ему самим выражением идеальной человечности, что досуг традиционно понимался как ????? и otium, т. е. жизнь, посвященная целям, более высоким, чем работа или политика.
Сам Маркс воспринимал свою так называемую утопию всего-навсего как предсказание; и действительно, в этой своей части его теория согласуется с определенными тенденциями, которые стали хорошо заметны лишь в наше время. Правление в старом смысле слова во многих отношениях уступило место административному руководству, а количество досуга, которым располагают массы, действительно постоянно растет во всех индустриализованных странах. Маркс ясно почувствовал определенные тенденции, присущие эпохе, начало которой дала промышленная революция, но ошибся, предположив, что эти тенденции смогут закрепиться только при условии обобществления средств производства. Власть традиции над его умом проявлялась в том, что эти тенденции виделись ему в идеализированном свете и осмыслялись им в терминах и понятиях, уходящих корнями в совершенно другой исторический период. Это помешало ему увидеть специфические и крайне непростые проблемы, присущие современному миру, и придало его метким предсказаниям их утопический характер. Но утопический идеал бесклассового, безгосударственного и нетрудящегося общества родился в результате бракосочетания двух совершенно неутопических составляющих: С одной стороны, Маркс наблюдал определенные тенденции, которые уже нельзя было понять, оставаясь в рамках традиции, а с другой стороны, он осмыслил и систематизировал их посредством традиционных понятий и идеалов.
Отношение самого Маркса к традиции политической мысли – сознательный бунт. И поэтому в вызывающей и парадоксальной манере он сформулировал несколько положений, которые, заключая в себе его политическую философию, лежат в основании сугубо научной части его работы и тем самым вне ее (и любопытно, что они оставались неизменными на протяжении всей его жизни, начиная с ранних произведений и заканчивая последним томом «Капитала»). Ключевые среди них следующие: «Труд создал человека» (согласно формулировке Энгельса, который, вопреки мнению, расхожему среди некоторых исследователей Маркса, обычно передавал его мысль адекватно и емко)[7 - Это положение звучит в эссе Энгельса «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека» (Marx K., Engels F. Selected Works, London, 1950, vol. II, p. 74). Сходные формулировки у самого Маркса см. особенно в: Die heilige Familie; Nationalokonomie und Philosophic, Jugendschriften, Stuttgart, 1953.]. «Насилие – повивальная бабка каждого старого общества, беременного новым»; следовательно, насилие – повивальная бабка истории (идея, звучащая во множестве вариаций в сочинениях как Маркса, так и Энгельса)[8 - Цит. по: Capital. Modern Library Edition, p. 824.]. Наконец, знаменитый последний тезис о Фейербахе: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его», который в свете марксовской мысли уместнее было бы передать так: «Философы уже достаточно долго объясняли мир; пришло время его изменить». Ведь это последнее положение на самом деле лишь вариация другого, звучащего в одной из ранних рукописей: «Вы не можете aufheben [т. е. поднять, сохранить и снять в гегелевском смысле] философию, не осуществив ее». В более поздних работах то же отношение к философии проявляется в предсказании, что рабочий класс будет единственным законным наследником классической философии.
Но одно из этих положений не может быть понято само по себе. Каждое приобретает значение за счет того, что противоречит какой-нибудь традиционно принятой истине, не подлежавшей сомнению вплоть до начала Нового времени. «Труд создал человека» означает, во-первых, что человека создал труд, а не Бог; во-вторых, что человек, если говорить именно о его человеческой стороне, создает себя сам, что его человечность – результат его собственной деятельности; в-третьих, что черта, отличающая человека от животного, его differentia specifica, это не разум, а труд, что человек суть не animal rationale, а animal laborans; в-четвертых, что человечность человека заключена не в разуме, до того времени считавшемся высшим человеческим атрибутом, а в труде, традиционно самой презираемой человеческой деятельности. Тем самым Маркс бросает вызов традиционному Богу, традиционной оценке труда и традиционному прославлению разума.
То, что насилие – повивальная бабка истории, означает, что скрытые силы, увеличивающие человеческую производительность в той мере, в какой они зависят от свободного и сознательного человеческого действия, обнаруживают себя только благодаря насилию войн и революций. Только лишь в эти насильственные периоды история показывает свое истинное лицо и разгоняет туман лицемерных, попросту идеологических разговоров. И вновь очевиден вызов, бросаемый традиции. Насилие традиционно считалось ultima ratio в отношениях между странами и самым позорным из приемов внутренней политики, отличительной чертой тирании. (Немногие попытки смыть с насилия пятно позора, главным образом попытки Макиавелли и Гоббса, имеют прямое отношение к проблеме власти и проливают немало света на раннее смешивание понятий власти и насилия, но на традицию политической мысли, предшествовавшую нашему времени, они оказали удивительно мало влияния.) Для Маркса, наоборот, все формы правления покоятся на насилии или, вернее, на обладании средствами насилия. Государство – это орудие правящего класса, с помощью которого он угнетает и эксплуатирует, и применение насилия характерно для всей сферы политического действия.
Отождествив действие с насилием, Маркс неявно бросил традиции еще один принципиальный вызов. Возможно, этот вызов не так обращает на себя внимание, как прочие, но Маркс, очень хорошо знавший Аристотеля, наверняка понимал, что делает. Двойное аристотелевское определение человека как ???? ????????? и ???? ????? ????, существа, достигающего своей высшей возможности в речевом общении и в полисной жизни, предназначалось для того, чтобы отличить грека от варвара и свободного человека от раба. Отличие было в том, что греки, живя вместе в полисе, вели дела средствами речи и убеждения (???????), а не насилия – немого принуждения. Именно поэтому когда свободные люди подчинялись своему правительству или законам полиса, их подчинение называлось ?????????, словом, ясно указывающим на то, что подчинение достигалось убеждением, а не силой. Варварами правили с помощью насилия, рабов же заставляли трудиться, а поскольку насильственное действие и тяжкий труд сходны в том, что не требуют речи, чтобы быть эффективными, варвары и рабы были ???? ?????, т. е. их коллективная жизнь не основывалась преимущественно на речи. Труд был для греков по своей сути неполитическим, частным делом, но насилие касалось других людей, через него с ними устанавливался контакт, пусть и негативный. Вот почему когда Маркс превозносит насилие, он, кроме того, непосредственно отрицает ?????, речь, диаметрально противоположную и, если следовать традиции, самую человечную форму взаимоотношений. За марксовской теорией идеологических надстроек стоит в конечном счете эта антитрадиционная враждебность к речи и, соответственно, превознесение насилия.
Для традиционной философии идея «осуществить философию» или изменить мир в соответствии с философией была бы самопротиворечивой; положение же Маркса подразумевает, что изменению предшествует объяснение, т. е. что своим объяснением мира философ указал, как его надо изменить. Может быть, философия и предписывала определенные правила поступков, хотя ни один великий философ никогда не считал это своей главной заботой. По существу, философия от Платона до Гегеля была «не от мира сего»: скажем, Платон описывал философа как человека, который лишь телом живет в городе своих сограждан, а Гегель допускал, что с точки зрения здравого смысла философия – это мир, поставленный «на голову», verkehrte Welt. Вызов традиции (на сей раз не скрытый, а прямо выраженный в марксовском положении) заключается в предсказании, что мир общих людям дел, где мы ориентируемся и размышляем, полагаясь на общее чувство (common sense), однажды станет тождествен царству идей, в котором вращается философ, – иными словами, философия, которая всегда была только «для немногих», однажды станет действительностью и здравым смыслом для каждого.
Эти три положения выражены в традиционных терминах, которые они, однако, подрывают; сформулированные как парадоксы, положения призваны нас шокировать. На самом деле они еще более парадоксальны и привели Маркса к еще большим трудностям, чем он ожидал. В каждом положении содержится одно фундаментальное противоречие, в понятийной системе самого Маркса оставшееся неразрешимым. Если труд – самая человечная и самая продуктивная деятельность человека, то что же произойдет, когда после революции «труд будет упразднен» в «царстве свободы», когда человек успешно себя от него освободит? Какая продуктивная в корне человечная деятельность останется? Если насилие – повивальная бабка истории, а насильственное действие, следовательно, обладает наибольшим достоинством среди всех форм человеческого действия, то что же будет, когда после завершения классовой борьбы и исчезновения государства никакое насилие будет уже невозможно? Как вообще люди смогут совершать подлинные, осмысленные поступки? Наконец, когда в обществе будущего философия будет одновременно осуществлена и упразднена, что за мышление останется?
Случаи непоследовательности Маркса хорошо известны и отмечены почти всеми его исследователями. Обычно их сводят к расхождениям «между научной точкой зрения историка и моральной точкой зрения пророка» (Эдмунд Уилсон), между историком, видевшим в накоплении капитала «материальное средство роста производительных сил» (Маркс), и моралистом, винившим тех, кто выполняет эту «историческую задачу» (Маркс), в том, что они эксплуатируют человека и лишают его людского облика. Эта и подобные непоследовательности незначительны по сравнению с фундаментальным противоречием между превознесением труда и действия (в противовес созерцанию и мысли) и идеалом безгосударственного общества, т. е. такого, где не совершаются поступки и (почти) нет труда. Ведь его нельзя ни списать на естественную разницу между революционно настроенным молодым Марксом и историком, экономистом, которым он стал позднее; ни разрешить, допустив диалектическое движение, которому требуется негативное – зло, чтобы породить позитивное – добро.
Такие фундаментальные и вопиющие противоречия редко встречаются у второсортных авторов, у которых их в любом случае можно не брать в расчет. В работах великих авторов они ведут к самому сердцу всей их работы и являются самым важным ключом к подлинному пониманию стоящих перед ними проблем и их новаторских догадок. У Маркса, как и других великих авторов предыдущего столетия, за вроде бы несерьезным, парадоксальным и провокационным тоном скрывается трудность изучения новых феноменов на языке старой мыслительной традиции, вне понятийного аппарата которой, как тогда казалось, вообще невозможно никакое мышление. Маркс (как, впрочем, и Кьеркегор, и Ницше) словно отчаянно пытался мыслить наперекор традиции, пользуясь ее же понятийными инструментами. Наша традиция политической мысли началась тогда, когда Платон обнаружил, что философский опыт, так или иначе, предполагает необходимость отвернуться от общего мира человеческих дел; она закончилась, когда от этого опыта не осталось ничего, кроме противопоставления мышления и действия, что лишило мысль действительности, а действие смысла сделало бессмысленным и то и другое.
II
Сила этой традиции, ее власть над мышлением западного человека, никогда не зависела от того, осознавал ли он ее. Действительно, лишь дважды в нашей истории мы встречаем такие периоды, когда люди осознавали, даже слишком акцентированно, наличие традиции и отождествляли возраст как таковой с авторитетом. Во-первых, так было, когда римляне приняли классическую греческую мысль и культуру как свою собственную и тем самым исторически предрешили, что традиция будет оказывать постоянное формообразующее влияние на европейскую цивилизацию. До римлян такая вещь, как традиция, была неизвестна; с их приходом и после них она стала путеводной нитью в прошлом и цепью, к которой каждое поколение, ведая о том или нет, было приковано в своем понимании мира и своего собственного опыта. Вплоть до периода романтизма мы не сталкиваемся больше с обостренным осознанием и превознесением традиции. (Открытие античности в эпоху Возрождения было первой попыткой порвать оковы традиции и, вернувшись к самим истокам, учредить такое прошлое, над которым традиция не имела бы власти.) Сегодня традиция иногда считается, по существу, романтическим понятием, но романтики всего лишь поставили традицию на повестку XIX века. Своим превознесением традиции они лишь помогли отметить момент перед тем, как Новое время изменило наш мир и общую обстановку до такой степени, что полагаться на традицию как на что-то само собой разумеющееся стало уже невозможно.
Конец традиции не означает с необходимостью, что традиционные понятия утратили власть над умами людей. Наоборот, иногда кажется, что эта власть заношенных понятий и категорий становится все более тиранической по мере того, как традиция теряет свою живую силу, а память о ее начале стирается. Может даже получиться так, что она обнаружит всю свою принуждающую силу только теперь, когда пришел ее конец и люди больше против нее не бунтуют. Во всяком случае, именно такой урок, похоже, можно вынести из распространения в XX веке формалистически-логического мышления, случившегося после того, как Кьеркегор, Маркс и Ницше бросили вызов основополагающим предпосылкам традиционной религии, традиционной политической мысли и традиционной метафизики, сознательно перевернув традиционную иерархию понятий. Однако на самом деле не бунт XIX века против традиции и не наступившие в XX веке последствия вызвали перелом в нашей истории. Этот перелом стал результатом массовой растерянности на политической сцене и хаотических массовых мнений в духовной сфере, из которого тоталитарные движения посредством террора и идеологии выкристаллизовали новую форму правления и господства. Тоталитарное господство – это такой факт, который в силу его беспримерности нельзя постичь в обычных категориях политической мысли; о «преступлениях» тоталитаризма нельзя судить по традиционным нравственным меркам, их невозможно наказать в рамках правовой системы нашей цивилизации. Именно поэтому появление тоталитаризма нарушило преемственность западной истории. Ныне слом нашей традиции – свершившийся факт. Это не результат чьего-то намеренного выбора и не что-то такое, о чем еще только предстоит принять решение.