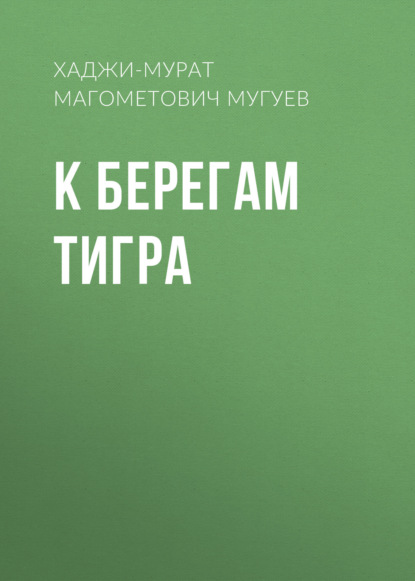По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
К берегам Тигра
Серия
Год написания книги
1951
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– По двести пятьдесят штук у каждого, окромя тех, что на двуколках. Кузнецы справили свой струмент. Фуражу тоже полны саквы. Вы уж не беспокойтесь, вашскобродие, – успокаивает он, – все как надо, в порядке… А что, – пригнувшись ко мне, шепчет он, – к английцам, говорят, идем?
Я гляжу на него полными изумления глазами. Он конфузится и говорит:
– Так промеж себя казаки толкуют. Опять же этот Востриков: «Я, говорит, знаю, к английцам через весь фронт пойдем».
Он умолкает, но я чувствую, что он дожидается ответа. Гамалий смеется:
– Ну, чего там скрывать. Уж если Востриков так сказал, надо открываться. К английцам, Лукьян, к ним.
– Да ведь дюже далеко, вашскобродие.
– Ничого, абы кони донесли.
– Донести-то донесут, да как вынесут? – качает головой вахмистр.
– Не лякай, вынесут. А ты що, уже отломил[19 - Казацкое выражение: «испугался».]?
– Никак нет, вашскобродие, я-то не отломлю: небось не первый раз по тылам гуляем.
– Ну то-то! Что еще?
– Да, кажись, все.
– Добре! Ступай спать. Нам с тобой с утра ще работы наберется.
– Спокойной ночи, ваше высокоблагородие.
– Спокойной ночи, Лукьян.
Гамалий поворачивается ко мне:
– Вот сукин сын Востриков. И черт его знает как он все пронюхает.
– Да он, вашскобродь, шныряет везде, как кобель. Чуточки услышит, как кто сбрехнет, а он все на ус мотает. Другому и в голову не придет послухать, что это там люди гуторят, а у Вострикова душа не на месте. Все он хочет знать, – говорит Пузанков, раскладывающий мне походную кровать.
– А что, Пузанков, я думаю оставить тебя здесь. Куда тебе с вьюками за нами таскаться, еще убьют тебя где-нибудь. Хочешь остаться здесь, при обозе? – подтруниваю я над своим вестовым.
Он сопит, потом поднимает на меня обиженные глаза и коротко говорит:
– Не желаю!
– Почему?
– Да так, не хочу! Куды сотня, туды и я.
– Да дурень, а вдруг не дойдем да все погибнем.
– Ну-к что ж! У меня в сотне брат, шуряк да двое дядей. Куды они, туды и я. Не желаю при обозе!
– Ну, ладно, смотри, потом не пеняй.
Он удовлетворенно смеется и хвастливо говорит:
– Чего пенять-то? Не на кого жалиться. Я, вашбродь, даром что денщик, а человек я рисковый.
– Тебе бы в строй, – смеется Химич.
– А что, может, я сам за храбрость до прапорщика дойду, – отрезает Пузанков.
Мы смеемся. Химич, недовольный таким сравнением, говорит:
– Ну, это мы поглядим, когда в бой попадем. Небось тогда спрячешься, коням хвосты пойдешь подкручивать.
– Ну там посмотрим, – решает Гамалий. – А теперь айда спать.
Пузанков уходит. Химич тушит свет, и через минуту он и Гамалий мерно храпят. Я хочу вызвать в памяти образы близких мне, родных людей, но сознание помимо моей воли покидает меня, и я погружаюсь в глубокий, без сновидений сон.
Еще совсем темно. Звезды лишь слегка поблекли на небосводе. До рассвета еще часа полтора, но сотня уже проснулась. Казаки возятся у коновязей, мелькают фигуры, слышатся вздохи и отчаянные зевки.
– Куцура, не бачив мово коня? – спрашивает кто-то из темноты.
– Ни. А що?
– Та нима його нигде, провалився скризь зимлю.
По парку движутся тени. Это казаки бродят в поисках разбредшихся за ночь коней.
– А ты йому ноги спутляв? – интересуется Куцура.
– Ни, забув. Та ций сатани що путляй, що не путляй, все одно сбижыть.
И крутая брань завершает этот разговор на ходу.
Пузанков увязывает тюки. Горохов разбирает палатку.
Гамалий зевает во весь рот.
– Теперь бы еще соснуть, – вслух мечтает он.
Химич бубнит у коновязи, подгоняя мешкающих казаков. Кухня разевает огненную пасть, и из открытого куба поднимаются клубы белого пара.
– Супу давать? – спрашивает Пузанков.
– Давай, да побольше, – сквозь зевки кидает Гамалий.
Спустя несколько минут мы вместе со всеми едим горячее варево с плавающим в нем мелко накрошенным мясом. За ним следует каша – крутая, густо посоленная пшенная каша, поджаренная на свином сале. Она хрустит на зубах. Есть не хочется. Но мало ли чего не хочется! Перед выступлением полагается хорошенько наполнить желудки, и мы поедаем наш «обед», поданный в три часа ночи.
«Эх, накормить бы пару раз вот так, среди ночи, обедом из котла всех этих окопавшихся при штабе бесчисленных трутней в генштабистских мундирах и сверкающих аксельбантах!» – со злостью думаю я.
Я гляжу на него полными изумления глазами. Он конфузится и говорит:
– Так промеж себя казаки толкуют. Опять же этот Востриков: «Я, говорит, знаю, к английцам через весь фронт пойдем».
Он умолкает, но я чувствую, что он дожидается ответа. Гамалий смеется:
– Ну, чего там скрывать. Уж если Востриков так сказал, надо открываться. К английцам, Лукьян, к ним.
– Да ведь дюже далеко, вашскобродие.
– Ничого, абы кони донесли.
– Донести-то донесут, да как вынесут? – качает головой вахмистр.
– Не лякай, вынесут. А ты що, уже отломил[19 - Казацкое выражение: «испугался».]?
– Никак нет, вашскобродие, я-то не отломлю: небось не первый раз по тылам гуляем.
– Ну то-то! Что еще?
– Да, кажись, все.
– Добре! Ступай спать. Нам с тобой с утра ще работы наберется.
– Спокойной ночи, ваше высокоблагородие.
– Спокойной ночи, Лукьян.
Гамалий поворачивается ко мне:
– Вот сукин сын Востриков. И черт его знает как он все пронюхает.
– Да он, вашскобродь, шныряет везде, как кобель. Чуточки услышит, как кто сбрехнет, а он все на ус мотает. Другому и в голову не придет послухать, что это там люди гуторят, а у Вострикова душа не на месте. Все он хочет знать, – говорит Пузанков, раскладывающий мне походную кровать.
– А что, Пузанков, я думаю оставить тебя здесь. Куда тебе с вьюками за нами таскаться, еще убьют тебя где-нибудь. Хочешь остаться здесь, при обозе? – подтруниваю я над своим вестовым.
Он сопит, потом поднимает на меня обиженные глаза и коротко говорит:
– Не желаю!
– Почему?
– Да так, не хочу! Куды сотня, туды и я.
– Да дурень, а вдруг не дойдем да все погибнем.
– Ну-к что ж! У меня в сотне брат, шуряк да двое дядей. Куды они, туды и я. Не желаю при обозе!
– Ну, ладно, смотри, потом не пеняй.
Он удовлетворенно смеется и хвастливо говорит:
– Чего пенять-то? Не на кого жалиться. Я, вашбродь, даром что денщик, а человек я рисковый.
– Тебе бы в строй, – смеется Химич.
– А что, может, я сам за храбрость до прапорщика дойду, – отрезает Пузанков.
Мы смеемся. Химич, недовольный таким сравнением, говорит:
– Ну, это мы поглядим, когда в бой попадем. Небось тогда спрячешься, коням хвосты пойдешь подкручивать.
– Ну там посмотрим, – решает Гамалий. – А теперь айда спать.
Пузанков уходит. Химич тушит свет, и через минуту он и Гамалий мерно храпят. Я хочу вызвать в памяти образы близких мне, родных людей, но сознание помимо моей воли покидает меня, и я погружаюсь в глубокий, без сновидений сон.
Еще совсем темно. Звезды лишь слегка поблекли на небосводе. До рассвета еще часа полтора, но сотня уже проснулась. Казаки возятся у коновязей, мелькают фигуры, слышатся вздохи и отчаянные зевки.
– Куцура, не бачив мово коня? – спрашивает кто-то из темноты.
– Ни. А що?
– Та нима його нигде, провалився скризь зимлю.
По парку движутся тени. Это казаки бродят в поисках разбредшихся за ночь коней.
– А ты йому ноги спутляв? – интересуется Куцура.
– Ни, забув. Та ций сатани що путляй, що не путляй, все одно сбижыть.
И крутая брань завершает этот разговор на ходу.
Пузанков увязывает тюки. Горохов разбирает палатку.
Гамалий зевает во весь рот.
– Теперь бы еще соснуть, – вслух мечтает он.
Химич бубнит у коновязи, подгоняя мешкающих казаков. Кухня разевает огненную пасть, и из открытого куба поднимаются клубы белого пара.
– Супу давать? – спрашивает Пузанков.
– Давай, да побольше, – сквозь зевки кидает Гамалий.
Спустя несколько минут мы вместе со всеми едим горячее варево с плавающим в нем мелко накрошенным мясом. За ним следует каша – крутая, густо посоленная пшенная каша, поджаренная на свином сале. Она хрустит на зубах. Есть не хочется. Но мало ли чего не хочется! Перед выступлением полагается хорошенько наполнить желудки, и мы поедаем наш «обед», поданный в три часа ночи.
«Эх, накормить бы пару раз вот так, среди ночи, обедом из котла всех этих окопавшихся при штабе бесчисленных трутней в генштабистских мундирах и сверкающих аксельбантах!» – со злостью думаю я.