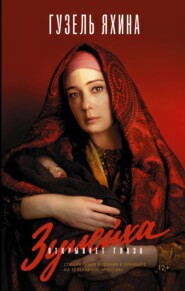По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Эшелон на Самарканд
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Дееву остро захотелось, чтобы поющей оказалась Фатима, однако в темноте лица женщин было не различить.
Дорогам – быть истоптанным тобой.
Врагам – быть истребленными тобой.
Скорее спи – и просыпайся мужчиной.
О мой мальчик!
Сердце моего сердца, мой возлюбленный сын!
И в небе – ничего не различить: ни тучи, ни светила, ни единого лунного луча. Долго ли сидеть еще, ожидая загаданную звезду? Деев ежился и пялился вверх, в черную небесную вату, – ждал.
* * *
Сапоги – одна тысяча штук, пять сотен левых и пять сотен правых, – шуршали по брусчатке. В темном утреннем городе этот шорох раздавался громко и заполнял собой всю Рыбнорядскую, все прилегающие улочки и проулки. Заглушал высокие голоса муэдзинов на минаретах, шаги редких прохожих. Пять сотен пар ног шаркали по мостовым камням, не в силах оторвать подошвы от земли.
Кавалерийский сапог был так велик, что некоторые дети могли бы поместиться в нем целиком – с головой утонуть в гигантском голенище. И потому шагали медленно, подхватив доходящие чуть ли не до подмышек сапоги руками, – процессия едва волоклась по улице, растянувшись длиннющей кишкой. Иногда кто-то кувыркался на землю, споткнувшись о выступающий булыжник, и тогда вся кишка замирала и терпеливо ждала, пока взрослые не помогут упавшему, – сами подняться в таком снаряжении дети не могли.
А взрослых помощников было совсем немного: вел процессию Деев, замыкала Шапиро, несколько сотрудниц эвакоприемника суетились по бокам. Были еще конные, но этим спешиться было бы затруднительно. Сидели в седлах молчаливые и строгие, уткнув подбородки в воротники шинелей. За спиной у каждого маячила винтовка, с пояса свисала шашка в ножнах. Из-под шинели торчали голые ступни.
Дееву казалось, кавалеристам стыдно за свою теплую амуницию перед детьми, одетыми в рваное и ветхое, укутанными в обрывки гобеленов и штор. Сам он был рад, что не ехал сейчас верхом, а топал вместе со всеми. Жаль только, своими ботинками поделиться ни с кем не мог.
Позади тащилась подвода с лежачими: больных уложили рядком поперек воза, плотно прижав друг к другу, как дрова в поленнице, и все они влезли, еще и место для пары малышей осталось. Телегу, на которой приехали утром сапоги, также отдали под малышню – годовалых и двухлеток.
До вокзала добирались невыносимо долго. Уже поутрело, уже улицы наполнились пешеходами и трамваями, уже дали – сначала по одному, затем по два, затем по три гудка – городские заводы, а кишка из детей все ползла и ползла. За ней образовался шлейф из беспризорников – приходилось отгонять их, чтобы не совались в ряды; это отвлекало взрослых, замедляя и без того черепаший ход процессии. Уже давно истекли два часа, отпущенные Дееву. Он то и дело с опаской поглядывал на конных – а вдруг прикажут разуваться посреди дороги и заберут армейское имущество? – те были невозмутимы. Начал было подгонять шагающих, чтобы топали шибче, – старшие только огрызались в ответ (“И без того вспотели костылять!”), а младшие послушно прибавляли шаг, но тут же запинались и падали. Вспотел и Деев, несмотря на злую утреннюю прохладу, – то ли от всей этой беготни, то ли от волнения за данное и невыполненное слово.
Наконец доползли до вокзального здания. Теперь только перебраться бы через пути к задам отстойника, где ожидал эшелон (пешим самостоятельно, а больным и малым на руках у взрослых), затем распихать всех быстренько по вагонам, и – спасибо за помощь, товарищи кавалеристы, счастливо оставаться!.. Да не тут-то было.
Дети не могли шагать через рельсы. Обутые в огромные сапожищи, они спотыкались о шпалы и увязали в щебенке. Ведомый Деевым отряд кое-как перебрался через пару путей и забуксовал – ровно посередине полотна из многочисленных стальных линий и деревянных поперечин. Ребята постарше как-то еще шкандыбали вперед, матерясь, а малыши повалились направо и налево, кувыркаясь друг через друга и выскакивая из великой им обуви. Деев и Шапиро заметались, словно квочки у выводка птенцов, поднимая упавших и потерянную обувь, сбивая расползающихся детей в кучу, – но поднятые через пару шагов снова летели на землю. Уставшие от долгого перехода задние ряды не желали ждать, напирали, вылезали на полотно – и тоже валились с ног. Ни остановить колонну, ни повернуть назад было уже невозможно – она растеклась по рельсам вширь и растянулась через все пути, от главного перрона и до путевых задворок.
Загудел подваливающий справа маневровый. Слева забасил паровик – зашипели тормоза, сталь завизжала о сталь, и черное паровозье рыло нависло где-то вверху, совсем близко. Деев только и успел – прыгнуть к нему, подняв руки и загородив собой детей, – а оно все басило, надвигаясь и обдавая волнами тепла и влаги.
– Дура! – орал, высунувшись из окна, красный от ярости машинист. – Убери малят!
Но паровоз уже остановился – и Деев, только отмахнув рукой в ответ, опять бросился к своим…
Паровику пришлось подождать. И маневровке, и паре дрезин с путевыми рабочими. Все машины и механизмы замерли на путях, уступая дорогу детям.
* * *
“Гирлянда” стояла на прежнем месте, но подход к ней был затруднен: соседнее полотно занял товарный эшелон, которого утром еще не было. Меж двумя составами образовался длинный проход – по нему детям и предстояло достичь вагонов.
А в начале прохода будущих пассажиров ждала Белая. Ждала не одна: тут же стоял невесть откуда взявшийся стол с гнутыми, лакированными некогда ножками (судя по всему, реквизировали из станционной рюмочной); на нем – стопы бумаг, придавленные обломком кирпича, чтобы не унесло ветром. Рядом сидел на перевернутом ящике фельдшер Буг в белом халате поверх кителя и замерли в ожидании сестры – выстроившись в линейку, с одинаковыми напряженными лицами, и только одна примостилась за столом с карандашом в руке.
– Это что еще за писчая контора?! – Деев, основательно замокревший от беготни по рельсам, первым добрался до “гирлянды”.
Позади пыхтели старшие дети – самые выносливые и длинноногие; за ними ковыляли ребята помладше, а малыши плелись в самом конце процессии, подгоняемые Шапиро и ее коллегами. Замыкали толпу кавалеристы сопровождения.
Комиссар едва взглянула на него – и закричала вдруг так зычно, что между вагонами задрожало и зазвенело эхо:
– Товарищи дети, подростки и переростки! Меня зовут комиссар Белая…
Деев аж вздрогнул от силы комиссарского голоса. А подростки и переростки – нет.
– Комиссар-комиссар, проводи на писсуар! – немедля загорланил один в ответ – одноухий, кого Деев приметил еще в приемнике.
Белая только посмотрела на наглеца пристально – как припечатала взглядом.
– Даю приказ! – продолжила. – В затылок друг другу стр-р-р-р-ройсь! По одному, не толкаясь и не бранясь, к доктору подходи! Рубахи задир-р-р-р-рай!
– Как это “по одному”? Мне сапоги сдавать пора! – вознегодовал Деев. – Я командиру академии обещал!
Солнце уже поднялось над привокзальными тополями – вовсю ползло по блеклому небосклону: судя по всему, минуло девять часов, а то и с четвертью. Но Белая лишь положила ладонь на деевское плечо и сжала со значением: обожди, не до того сейчас. Плечо потеплело, словно горчичник наложили. Деев уставился на женские пальцы, обхватившие его рукав: пальцы были длинные, с ровными и розовыми ногтями.
– А сама-то задерешь? – не унимался одноухий. – Я бы глянул, что у тебя под рубахой спрятано!
И вот уже проснулись другие пересмешники – загоготали, заулюлюкали, присвистывая:
– Мне бы не врача, мне бы калача!
– Не хочу лечиться, а хочу мочиться!
– Дайте помочиться, а не то случится!
– Умолять не стану, – голос у комиссара был жесткий, как мужской. – Кто не желает – становись в сторонку. Все бузотеры, квакалы и спорщики, все задиралы и забияки – сюда! – Она сняла руку с деевского плеча (а плечо-то продолжало гореть!) и ткнула пальцем куда-то в начало “гирлянды”, рядом с полевой кухней. – Все гордецы и ослушники – сюда же! Останетесь в городе.
Обращалась будто бы и ко всем, но смотрела только на одноухого – смотрела, не отрываясь и слегка откинув высокую голову, словно еще более увеличивая и без того немалый свой рост.
А тот пялился на нее – нахальными и взрослыми совершенно глазами, ярко-голубыми на буром лице. Тельце у пацаненка было костлявое и кургузое, а ноги столь кривые, что казались едва не короче туловища. Ему могло быть лет десять, а могло – и все четырнадцать.
– Остальные, когда сядут по вагонам, получат обед. Товарищ кашевар, что у нас на обед? – Белая шарахнула кулаком по кухонной двери, та послушно отъехала в сторону – показался Мемеля в грязно-белом колпаке и с кастрюлей в руке, замычал что-то невнятное.
– Слыхали? – со значением подняла брови Белая. – То-то же!
При виде кашевара и кастрюли ребятня заволновалась, загудела возбужденно.
– Хиловат поваренок, не сдюжит! – продолжали ерничать старшие, но уже слышно было по звонким их голосам – рады.
– Кашу пусть заварит, и погуще! – просили сзади. – Нам каша – родная мамаша!
– А махорка после обеда полагается? – все еще ломались первые ряды.
И видно было: сдерживаются из последних сил, чтобы не помчаться опрометью к фельдшерскому столу на осмотр, а затем – по вагонам.
– А марафет? – не унимался одноухий, норовя перекричать остальных. – Без марафету – жизни нету! А с марафетом… – взял паузу, как опытный актер, и окинул победительным взглядом сотоварищей, – …с марафетом и ты, комиссар, за бабу сойдешь!
Первые ряды грянули хохотом. Шутка полетела дальше по толпе, передаваемая из уст в уста и сопровождаемая смешками и вскликами.
– Грига, стыдно! – Подбежавшая Шапиро бросилась к одноухому, тряся ладонями и словно желая заткнуть дерзкий рот, а Грига только склабился довольно.
– Отчего же, – возразила Белая, высоко поднимая руку и унимая раззадоренную толпу. – Вопрос по существу. – Она пошла вдоль рядов, быстро и внимательно заглядывая в глаза всем хихикающим. – Отвечаю: ни марафета, ни кокса, а также антрацита, кикера, муры, нюхары, мела, муки и соды в эшелоне не будет. А у кого заведется – тот полетит из вагона вон. Даже тормозить не станем – выбросим нюхача на ходу, и все!
Дорогам – быть истоптанным тобой.
Врагам – быть истребленными тобой.
Скорее спи – и просыпайся мужчиной.
О мой мальчик!
Сердце моего сердца, мой возлюбленный сын!
И в небе – ничего не различить: ни тучи, ни светила, ни единого лунного луча. Долго ли сидеть еще, ожидая загаданную звезду? Деев ежился и пялился вверх, в черную небесную вату, – ждал.
* * *
Сапоги – одна тысяча штук, пять сотен левых и пять сотен правых, – шуршали по брусчатке. В темном утреннем городе этот шорох раздавался громко и заполнял собой всю Рыбнорядскую, все прилегающие улочки и проулки. Заглушал высокие голоса муэдзинов на минаретах, шаги редких прохожих. Пять сотен пар ног шаркали по мостовым камням, не в силах оторвать подошвы от земли.
Кавалерийский сапог был так велик, что некоторые дети могли бы поместиться в нем целиком – с головой утонуть в гигантском голенище. И потому шагали медленно, подхватив доходящие чуть ли не до подмышек сапоги руками, – процессия едва волоклась по улице, растянувшись длиннющей кишкой. Иногда кто-то кувыркался на землю, споткнувшись о выступающий булыжник, и тогда вся кишка замирала и терпеливо ждала, пока взрослые не помогут упавшему, – сами подняться в таком снаряжении дети не могли.
А взрослых помощников было совсем немного: вел процессию Деев, замыкала Шапиро, несколько сотрудниц эвакоприемника суетились по бокам. Были еще конные, но этим спешиться было бы затруднительно. Сидели в седлах молчаливые и строгие, уткнув подбородки в воротники шинелей. За спиной у каждого маячила винтовка, с пояса свисала шашка в ножнах. Из-под шинели торчали голые ступни.
Дееву казалось, кавалеристам стыдно за свою теплую амуницию перед детьми, одетыми в рваное и ветхое, укутанными в обрывки гобеленов и штор. Сам он был рад, что не ехал сейчас верхом, а топал вместе со всеми. Жаль только, своими ботинками поделиться ни с кем не мог.
Позади тащилась подвода с лежачими: больных уложили рядком поперек воза, плотно прижав друг к другу, как дрова в поленнице, и все они влезли, еще и место для пары малышей осталось. Телегу, на которой приехали утром сапоги, также отдали под малышню – годовалых и двухлеток.
До вокзала добирались невыносимо долго. Уже поутрело, уже улицы наполнились пешеходами и трамваями, уже дали – сначала по одному, затем по два, затем по три гудка – городские заводы, а кишка из детей все ползла и ползла. За ней образовался шлейф из беспризорников – приходилось отгонять их, чтобы не совались в ряды; это отвлекало взрослых, замедляя и без того черепаший ход процессии. Уже давно истекли два часа, отпущенные Дееву. Он то и дело с опаской поглядывал на конных – а вдруг прикажут разуваться посреди дороги и заберут армейское имущество? – те были невозмутимы. Начал было подгонять шагающих, чтобы топали шибче, – старшие только огрызались в ответ (“И без того вспотели костылять!”), а младшие послушно прибавляли шаг, но тут же запинались и падали. Вспотел и Деев, несмотря на злую утреннюю прохладу, – то ли от всей этой беготни, то ли от волнения за данное и невыполненное слово.
Наконец доползли до вокзального здания. Теперь только перебраться бы через пути к задам отстойника, где ожидал эшелон (пешим самостоятельно, а больным и малым на руках у взрослых), затем распихать всех быстренько по вагонам, и – спасибо за помощь, товарищи кавалеристы, счастливо оставаться!.. Да не тут-то было.
Дети не могли шагать через рельсы. Обутые в огромные сапожищи, они спотыкались о шпалы и увязали в щебенке. Ведомый Деевым отряд кое-как перебрался через пару путей и забуксовал – ровно посередине полотна из многочисленных стальных линий и деревянных поперечин. Ребята постарше как-то еще шкандыбали вперед, матерясь, а малыши повалились направо и налево, кувыркаясь друг через друга и выскакивая из великой им обуви. Деев и Шапиро заметались, словно квочки у выводка птенцов, поднимая упавших и потерянную обувь, сбивая расползающихся детей в кучу, – но поднятые через пару шагов снова летели на землю. Уставшие от долгого перехода задние ряды не желали ждать, напирали, вылезали на полотно – и тоже валились с ног. Ни остановить колонну, ни повернуть назад было уже невозможно – она растеклась по рельсам вширь и растянулась через все пути, от главного перрона и до путевых задворок.
Загудел подваливающий справа маневровый. Слева забасил паровик – зашипели тормоза, сталь завизжала о сталь, и черное паровозье рыло нависло где-то вверху, совсем близко. Деев только и успел – прыгнуть к нему, подняв руки и загородив собой детей, – а оно все басило, надвигаясь и обдавая волнами тепла и влаги.
– Дура! – орал, высунувшись из окна, красный от ярости машинист. – Убери малят!
Но паровоз уже остановился – и Деев, только отмахнув рукой в ответ, опять бросился к своим…
Паровику пришлось подождать. И маневровке, и паре дрезин с путевыми рабочими. Все машины и механизмы замерли на путях, уступая дорогу детям.
* * *
“Гирлянда” стояла на прежнем месте, но подход к ней был затруднен: соседнее полотно занял товарный эшелон, которого утром еще не было. Меж двумя составами образовался длинный проход – по нему детям и предстояло достичь вагонов.
А в начале прохода будущих пассажиров ждала Белая. Ждала не одна: тут же стоял невесть откуда взявшийся стол с гнутыми, лакированными некогда ножками (судя по всему, реквизировали из станционной рюмочной); на нем – стопы бумаг, придавленные обломком кирпича, чтобы не унесло ветром. Рядом сидел на перевернутом ящике фельдшер Буг в белом халате поверх кителя и замерли в ожидании сестры – выстроившись в линейку, с одинаковыми напряженными лицами, и только одна примостилась за столом с карандашом в руке.
– Это что еще за писчая контора?! – Деев, основательно замокревший от беготни по рельсам, первым добрался до “гирлянды”.
Позади пыхтели старшие дети – самые выносливые и длинноногие; за ними ковыляли ребята помладше, а малыши плелись в самом конце процессии, подгоняемые Шапиро и ее коллегами. Замыкали толпу кавалеристы сопровождения.
Комиссар едва взглянула на него – и закричала вдруг так зычно, что между вагонами задрожало и зазвенело эхо:
– Товарищи дети, подростки и переростки! Меня зовут комиссар Белая…
Деев аж вздрогнул от силы комиссарского голоса. А подростки и переростки – нет.
– Комиссар-комиссар, проводи на писсуар! – немедля загорланил один в ответ – одноухий, кого Деев приметил еще в приемнике.
Белая только посмотрела на наглеца пристально – как припечатала взглядом.
– Даю приказ! – продолжила. – В затылок друг другу стр-р-р-р-ройсь! По одному, не толкаясь и не бранясь, к доктору подходи! Рубахи задир-р-р-р-рай!
– Как это “по одному”? Мне сапоги сдавать пора! – вознегодовал Деев. – Я командиру академии обещал!
Солнце уже поднялось над привокзальными тополями – вовсю ползло по блеклому небосклону: судя по всему, минуло девять часов, а то и с четвертью. Но Белая лишь положила ладонь на деевское плечо и сжала со значением: обожди, не до того сейчас. Плечо потеплело, словно горчичник наложили. Деев уставился на женские пальцы, обхватившие его рукав: пальцы были длинные, с ровными и розовыми ногтями.
– А сама-то задерешь? – не унимался одноухий. – Я бы глянул, что у тебя под рубахой спрятано!
И вот уже проснулись другие пересмешники – загоготали, заулюлюкали, присвистывая:
– Мне бы не врача, мне бы калача!
– Не хочу лечиться, а хочу мочиться!
– Дайте помочиться, а не то случится!
– Умолять не стану, – голос у комиссара был жесткий, как мужской. – Кто не желает – становись в сторонку. Все бузотеры, квакалы и спорщики, все задиралы и забияки – сюда! – Она сняла руку с деевского плеча (а плечо-то продолжало гореть!) и ткнула пальцем куда-то в начало “гирлянды”, рядом с полевой кухней. – Все гордецы и ослушники – сюда же! Останетесь в городе.
Обращалась будто бы и ко всем, но смотрела только на одноухого – смотрела, не отрываясь и слегка откинув высокую голову, словно еще более увеличивая и без того немалый свой рост.
А тот пялился на нее – нахальными и взрослыми совершенно глазами, ярко-голубыми на буром лице. Тельце у пацаненка было костлявое и кургузое, а ноги столь кривые, что казались едва не короче туловища. Ему могло быть лет десять, а могло – и все четырнадцать.
– Остальные, когда сядут по вагонам, получат обед. Товарищ кашевар, что у нас на обед? – Белая шарахнула кулаком по кухонной двери, та послушно отъехала в сторону – показался Мемеля в грязно-белом колпаке и с кастрюлей в руке, замычал что-то невнятное.
– Слыхали? – со значением подняла брови Белая. – То-то же!
При виде кашевара и кастрюли ребятня заволновалась, загудела возбужденно.
– Хиловат поваренок, не сдюжит! – продолжали ерничать старшие, но уже слышно было по звонким их голосам – рады.
– Кашу пусть заварит, и погуще! – просили сзади. – Нам каша – родная мамаша!
– А махорка после обеда полагается? – все еще ломались первые ряды.
И видно было: сдерживаются из последних сил, чтобы не помчаться опрометью к фельдшерскому столу на осмотр, а затем – по вагонам.
– А марафет? – не унимался одноухий, норовя перекричать остальных. – Без марафету – жизни нету! А с марафетом… – взял паузу, как опытный актер, и окинул победительным взглядом сотоварищей, – …с марафетом и ты, комиссар, за бабу сойдешь!
Первые ряды грянули хохотом. Шутка полетела дальше по толпе, передаваемая из уст в уста и сопровождаемая смешками и вскликами.
– Грига, стыдно! – Подбежавшая Шапиро бросилась к одноухому, тряся ладонями и словно желая заткнуть дерзкий рот, а Грига только склабился довольно.
– Отчего же, – возразила Белая, высоко поднимая руку и унимая раззадоренную толпу. – Вопрос по существу. – Она пошла вдоль рядов, быстро и внимательно заглядывая в глаза всем хихикающим. – Отвечаю: ни марафета, ни кокса, а также антрацита, кикера, муры, нюхары, мела, муки и соды в эшелоне не будет. А у кого заведется – тот полетит из вагона вон. Даже тормозить не станем – выбросим нюхача на ходу, и все!