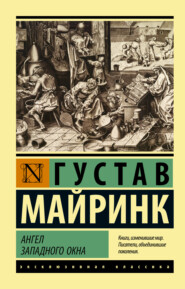По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Голем
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Голем
Густав Майринк
Horror Story (Рипол)
Абсолютная классика европейской словесности, шедевр «пражской литературной школы» и величайший оккультный роман первой половины XX века! Все это – «Голем» Густава Майринка, произведение, вдохновленное старой Прагой и иудейской мистикой.
На улочках древнего города оживает древняя легенда о Големе – глиняном истукане, созданном старым раввином. Главный герой, втянутый в водоворот странных и пугающих событий, начинает путать явь и грезы. Какую роль он сыграет в истории великой любви, случившейся столетие назад?
Читавший «Голем» может считать себя просмотревшим половину старой голливудской классики. Именно благодаря великому Майринку впервые в большой литературе прозвучали темы переплетения сна и реальности и воспоминаний о прошлых жизнях, а техника монтажа, до сих пор непревзойденная никем из писателей, и по сей день вдохновляет мэтров кинематографа.
Густав Майринк
Голем
Horror Story
Gustav Meyrink
Der Golem
Перевод с немецкого Д. И. Выгодского
© Марков А. В., вступительная статья, 2021
© Издание на русском языке, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2021
Пражский учитель
Густав Майринк (1868–1932) – самый старший из трех великих литературных уроженцев Праги: Райнер Мария Рильке родился почти на восемь лет позже него, Франц Кафка – на пятнадцать. Можно ли говорить о пражской школе, пражском экспрессионизме, непосредственном столкновении с непостижимым, ужасным, заставляющем иначе посмотреть на историю, у всех трех писателей? И да, и нет. Все трое чувствовали себя не очень уютно на перекрестке культур и традиций, каким была Прага, принужденная стать провинцией Австро-Венгерской империи, все трое иногда нелепо влюблялись и побаивались чрезмерной влюбленности, все трое отличались невероятной аккуратностью, тщательной организованностью литературной работы, склонностью к детализации, писательской скромностью, вопреки любым романтическим образам стихийного гения. Но есть одно отличие Майринка – он не создал своего «мира», подобно «кафкианской реальности» или «ландшафту Рильке». Впрочем, он создал что-то не менее важное – новый способ говорить о социальном мире, примерно как Хайдеггер создал новый способ говорить о философии, а Нильс Бор – новый способ говорить о физике.
Майринк (Майер) был внебрачным сыном министра Фридриха Карла Готлиба фрейхер Варнбюлера фон унд цу Хеммингена, фактически руководившего делами небольшого королевства Вюртемберг, соседа Баварии, только в 1918 г. окончательно лишившегося независимости. Когда в 1919 году отец предложил официально признать его как законного члена семейства, Густав гордо отказался.
По профессии Майринк был банкиром. Но только его банковское дело оказалось неудачным: дуэлянт и завсегдатай оккультных салонов, увлеченный читатель мистических книг и острый на язык сатирик-импровизатор, он нажил множество врагов, подозревавших его то ли в шарлатанстве, то ли в шпионаже, и в конце концов в 1902 г. был арестован по обвинению в том, что якобы заманивал в банк клиентов на спиритических сеансах и обманывал их. Выйдя из тюрьмы, Майринк решил больше не возвращаться к предпринимательству, а полностью посвятить себя литературной деятельности.
Переехав в Вену и заключив новый брак с давней возлюбленной, он стал писать с утра до вечера все – от юмористических рассказов и фельетонов до прозаического переложения в лицах правил йоги. Он переводил эзотерическую литературу и Диккенса, всякий раз находя, что можно будет продать на книжном рынке. Но первым его бестселлером стал роман «Голем», вышедший в 1915 г., во многом, кстати, полемизирующий с христианством Диккенса – финальная сцена пожара рождественской елки, заставляющая главного героя встретиться взглядом со своим мнимым хозяином, мудрецом Гиллелем, явно переворачивает историю рождественского покаяния мистера Скруджа. Майринк говорит, что призраки, явившиеся в рождественскую ночь, уже не могут изменить человека, потому что сам человек – еще больший призрак, чем любые придуманные существа.
Роман основан на соединении двух принципов; это соединение и обеспечило ему небывалый успех. Первый – это неоромантическая техника «ненадежного рассказчика», при которой читатель не понимает, что было на самом деле, а что приснилось или показалось повествователю, говорящему от первого лица, примеры чего мы видим в повестях «Клара Милич» И. С. Тургенева и «Поворот винта» Генри Джеймса. Второй – это индуистский и пифагорейский миф о переселении душ, о возможности вспомнить свои прошлые жизни и тем самым восстановить единство истории, получить власть над историей – уже Пифагор, первый в Европе сторонник переселения душ, считал себя политическим лидером.
В настоящее время оба принципа стали уделом низкого уровня массовой культуры: ненадежный рассказчик растворился в монтаже массового кинематографа, где мы не сразу догадываемся, что перед нами – сон героя или один из возможных сценариев будущего, а «кем ты был в прошлой жизни» – тема для самых дешевых газет. Но в 1915 году и то и другое было в новинку – кинематограф только начал браться за серьезные темы (и не случайно «Голем» несколько раз был экранизирован еще в эпоху немого кино), а буддизм и неоиндуизм существовали в авторских трактовках Е. П. Блаватской или А. Безант, а не как основа новых литературных произведений или дух эпохи; да и сам Майринк стал называть себя верующим буддистом только в конце 1920-х годов.
В романе есть многое: и мнимый автобиографизм – например, главный герой попадает в тюрьму по ложному обвинению, и самый распространенный волшебный предмет – шляпа, и то, что сейчас, применительно к кино, называют макгаффином – предмет, вокруг которого кружится все действие: книга каббалистических рецептов, врученная герою самим Големом. Вещи говорят от лица людей, волшебными помощниками могут тоже оказаться ожившие вещи, влюбленность оказывается частью какого-то более масштабного сценария, который едва ли может постичь сам герой, а встреча с историей предполагает знакомство с самыми разными колоритными фигурами.
Предание о Големе, которое лежит в основе сюжета, основано на представлении, что Адам был одушевлен словом Божиим, а следовательно, хороший знаток Библии, знающий наизусть Священное Писание, может вольно или невольно оживить кусок глины. Другое дело, что любое беспамятство хозяина этого искусственного слуги может привести к печальным последствиям: тот перестанет слушаться, станет неуправляемым роботом без программы. Здесь мы видим, что это предание тесно связано с западным «искусством памяти» («театром памяти»), которое существовало в античной риторике как практический навык запоминать текст целиком на основе пространственных ассоциаций, а в ренессансной науке, от Марсилио Фичино до Джордано Бруно, стало пониматься как магический способ овладения миром благодаря умению помнить все детали.
Конечно, думать, что пражские каббалисты из гетто действительно пытались создать искусственных людей – все равно что предполагать, что Пушкин приносил в одном из своих имений настоящие жертвы Аполлону или что Эйнштейн и в быту считал все относительным. На самом деле каббалистическое искусство знания букв, определяющих строение мироздания, – результат столкновения еврейства с эллинистическим миром: на рубеже эр для многих евреев родным языком был уже греческий. От греков иудеи узнали, что буквы могут быть цифрами, условными символами, и что можно идти из пункта А в пункт Б – встреча с философией не меньше потрясала воображение, чем в наши дни – знакомство с коллайдером, телескопами и новейшими медицинскими технологиями. Достаточно было при этом начать уточнять, как именно мир был «сотворен» и что значит «творить», – и начальная форма каббалы уже готова.
Конечно, многовековые перипетии каббалы – тема не для одной книги, и если для Майринка была актуальна сама каббала, а не разрозненные слухи о ней, то прежде всего в виде трактата «Зогар» XIII века и системы Ицхака Лурии XVI века, которые и вошли в эзотерический канон. Основной смысл и того и другого учения был прост и вместе с тем безумно сложен – познание есть прежде всего экстатическое озарение, мало что меняющее в мире, но преображающее прежде всего адепта. Ни одна книга не остановит войны, но она создаст человека, который смотрит на войны иначе, уже просветленным взглядом. Каббалисты, так же как исихасты в православии, францисканцы в католичестве, суфии в исламе, в том же XIII веке реформировали образы тела и образы искусства: спасение происходит здесь и сейчас, прямо на наших глазах разыгрывается основная драма истории, и сколь бы ни был мал на земле человек, ум его вместит мир как книгу, а книгу – как мир. Не случайно переводчиком этой книги на русский язык стал трудолюбивейший Давид Выгодский, двоюродный брат великого психолога Льва Выготского, который и увидел во взрослении человека не просто созревание характера, а ряд роковых и определяющих встреч с самим собой.
Тогда образ книги с эзотерическими рисунками, которую читает и пытается запомнить главный герой, становится ясен – это то, что становится частью тела человека, как библейские пророки и Иоанн Богослов в «Апокалипсисе» выпивают книгу и благодаря этому становятся свидетелями и участниками истории. Поэтому тема романа позволяет Майринку заменить обычный для романтизма мотив угрожающего хозяину двойника-призрака («доппельгангера», как Тень у Андерсена или Нос у Гоголя) неоромантическим мотивом иной реальности, Голема, который уже вписан не в личную судьбу человека, страдающего в эпоху больших исторических изменений, но в сами исторические изменения, а личная судьба как таковая вообще ставится под вопрос. Теперь не Голем преследует Человека, но Человек видит в себе Голема, ощущает себя Големом, и поэтому Атанасиус Пернат пытается изготовить новый магический предмет, камею, который и освободит его. Конечно, такое видение себя в качестве своего же двойника во многом обязано эффекту кинематографа, когда ты оказываешься внутри кинозала и как бы видим теми, кто смотрит на тебя с экрана, но такое признание личной судьбы как дробной, явленной на экране, в сновидении, стало общим местом для многих произведений XX века. Имя Ата-насиуса Перната, кстати, отсылает к Афаназию Кирхеру, ватиканскому ученому XVII века, знатоку каббалы и изобретателю волшебного фонаря – прототипа кинематографического аппарата.
Чтение «Голема» в наши дни – это без преувеличения лучший способ вспомнить главные поворотные моменты искусства XX века: развитие детектива и триллера, сериала со множеством странных героев и кино о путешествии во времени, но также и появление экспрессионизма, сюрреализма, беспредметного искусства, обоснование психоанализа и квантовой физики. Проходя через лабиринт этой книги, неожиданно выброшенные в ее новые измерения, мы узнаем многое, что не узнали бы, просто читая бестселлеры, и прежде всего – какая отвага стоит за всеми этими поворотами XX столетия. Скромный писатель раскрывает нам горестный XX век как эпоху смелости, и благодарить за это мы начинаем уже с первых страниц.
Александр Марков, профессор РГГУ
Голем
I. Сон
Лунный свет падает на край моей постели и лежит там большой сияющей плоской плитой.
Когда лик полной луны начинает ущербляться и правая его сторона идет на убыль – точно лицо, приближающееся к старости, сперва покрывается морщинами и начинает худеть, – в такие часы мной овладевает тяжелое и мучительное беспокойство.
Я не сплю и не бодрствую, и в полусне в моем сознании смешивается пережитое с прочитанным и слышанным, словно стекаются струи разной окраски и ясности.
Перед сном я читал о жизни Будды Готамы, и теперь на тысячу ладов проносятся в моем сознании, постоянно возвращаясь к началу, следующие слова: «Ворона слетела к камню, который походил на кусок сала, и думала: здесь что-то вкусное. Но не найдя ничего вкусного, она отлетела прочь. Подобно вороне, спустившейся к камню, покидаем мы – ищущие – аскета Готаму, потеряв вкус к нему».
И образ камня, походившего на кусок сала, вырастает в моем мозгу неимоверно.
Я ступаю по руслу высохшей реки и собираю гладкие камешки.
Серо-синие камни с выкрапленной поблескивающей пылью, над которыми я размышляю и размышляю и все-таки не знаю, что с ними предпринять, – затем черные, с желтыми, как сера, пятнами, как окаменевшие попытки ребенка вылепить грубую пятнистую ящерицу.
И мне хочется отбросить их далеко от себя, эти камешки, но они выпадают все у меня из рук, из поля зрения моего не могу их прогнать.
Все камни, которые когда-либо играли роль в моей жизни, встают и обступают меня.
Одни, как крупные, аспидного цвета крабы, перед возвращающимся приливом, напрягая силы, стараются выкарабкаться из песка на свет, всячески стремятся обратить на себя мой взор, чтобы поведать мне о чем-то бесконечно важном.
Другие, истощенные, бессильно падают назад, в свои ямы, и отказываются когда-либо что-нибудь сказать.
Время от времени я выхожу из сумерек этого полусна и на мгновение вижу снова на выпученном краю моего одеяла лунный свет, лежащий большой сияющей плоской плитой, чтобы затем в закоулках вновь ускользающего сознания беспокойно искать мучающий меня камень, что где-то, в отбросах моего воспоминания, лежит, похожий на кусок сала.
Возле него на земле, вероятно, когда-то помещалась водосточная труба – рисую я себе, – загнутая под тупым углом, с краями, изъеденными ржавчиной, и упорно я стараюсь разбудить в своем сознании такой образ, который обманул бы мои вспугнутые мысли и убаюкал бы их.
Это мне не удается.
Все снова и снова, с бессмысленным упорством, неутомимо, как ставень, которым ветер через равные промежутки времени бьет в стену, твердит во мне упрямый голос: это совсем не то, это вовсе не тот камень, который похож на кусок сала.
От этого голоса не отделаться.
Хоть бы сто раз я доказывал себе, что это совершенно не важно, он умолкает на одно мгновение, потом опять незаметно просыпается и настойчиво начинает сызнова: хорошо, хорошо, пусть так, но это все же не камень, похожий на кусок сала.
Постепенно мною овладевает невыносимое чувство полной беспомощности.
Что дальше произошло, не знаю. Добровольно ли я отказался от всякого сопротивления, или они – мои мысли – меня одолели и покорили.
Знаю только, что мое тело лежит спящим в постели, а мое сознание отделилось от него и больше с ним не связано.
Кто же теперь мое Я? Хочется вдруг спросить, но тут я соображаю, что у меня нет больше органа, посредством которого я мог бы вопрошать, и я начинаю бояться, что глупый голос снова проснется во мне и снова начнет бесконечный допрос о камне и сале.
Густав Майринк
Horror Story (Рипол)
Абсолютная классика европейской словесности, шедевр «пражской литературной школы» и величайший оккультный роман первой половины XX века! Все это – «Голем» Густава Майринка, произведение, вдохновленное старой Прагой и иудейской мистикой.
На улочках древнего города оживает древняя легенда о Големе – глиняном истукане, созданном старым раввином. Главный герой, втянутый в водоворот странных и пугающих событий, начинает путать явь и грезы. Какую роль он сыграет в истории великой любви, случившейся столетие назад?
Читавший «Голем» может считать себя просмотревшим половину старой голливудской классики. Именно благодаря великому Майринку впервые в большой литературе прозвучали темы переплетения сна и реальности и воспоминаний о прошлых жизнях, а техника монтажа, до сих пор непревзойденная никем из писателей, и по сей день вдохновляет мэтров кинематографа.
Густав Майринк
Голем
Horror Story
Gustav Meyrink
Der Golem
Перевод с немецкого Д. И. Выгодского
© Марков А. В., вступительная статья, 2021
© Издание на русском языке, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2021
Пражский учитель
Густав Майринк (1868–1932) – самый старший из трех великих литературных уроженцев Праги: Райнер Мария Рильке родился почти на восемь лет позже него, Франц Кафка – на пятнадцать. Можно ли говорить о пражской школе, пражском экспрессионизме, непосредственном столкновении с непостижимым, ужасным, заставляющем иначе посмотреть на историю, у всех трех писателей? И да, и нет. Все трое чувствовали себя не очень уютно на перекрестке культур и традиций, каким была Прага, принужденная стать провинцией Австро-Венгерской империи, все трое иногда нелепо влюблялись и побаивались чрезмерной влюбленности, все трое отличались невероятной аккуратностью, тщательной организованностью литературной работы, склонностью к детализации, писательской скромностью, вопреки любым романтическим образам стихийного гения. Но есть одно отличие Майринка – он не создал своего «мира», подобно «кафкианской реальности» или «ландшафту Рильке». Впрочем, он создал что-то не менее важное – новый способ говорить о социальном мире, примерно как Хайдеггер создал новый способ говорить о философии, а Нильс Бор – новый способ говорить о физике.
Майринк (Майер) был внебрачным сыном министра Фридриха Карла Готлиба фрейхер Варнбюлера фон унд цу Хеммингена, фактически руководившего делами небольшого королевства Вюртемберг, соседа Баварии, только в 1918 г. окончательно лишившегося независимости. Когда в 1919 году отец предложил официально признать его как законного члена семейства, Густав гордо отказался.
По профессии Майринк был банкиром. Но только его банковское дело оказалось неудачным: дуэлянт и завсегдатай оккультных салонов, увлеченный читатель мистических книг и острый на язык сатирик-импровизатор, он нажил множество врагов, подозревавших его то ли в шарлатанстве, то ли в шпионаже, и в конце концов в 1902 г. был арестован по обвинению в том, что якобы заманивал в банк клиентов на спиритических сеансах и обманывал их. Выйдя из тюрьмы, Майринк решил больше не возвращаться к предпринимательству, а полностью посвятить себя литературной деятельности.
Переехав в Вену и заключив новый брак с давней возлюбленной, он стал писать с утра до вечера все – от юмористических рассказов и фельетонов до прозаического переложения в лицах правил йоги. Он переводил эзотерическую литературу и Диккенса, всякий раз находя, что можно будет продать на книжном рынке. Но первым его бестселлером стал роман «Голем», вышедший в 1915 г., во многом, кстати, полемизирующий с христианством Диккенса – финальная сцена пожара рождественской елки, заставляющая главного героя встретиться взглядом со своим мнимым хозяином, мудрецом Гиллелем, явно переворачивает историю рождественского покаяния мистера Скруджа. Майринк говорит, что призраки, явившиеся в рождественскую ночь, уже не могут изменить человека, потому что сам человек – еще больший призрак, чем любые придуманные существа.
Роман основан на соединении двух принципов; это соединение и обеспечило ему небывалый успех. Первый – это неоромантическая техника «ненадежного рассказчика», при которой читатель не понимает, что было на самом деле, а что приснилось или показалось повествователю, говорящему от первого лица, примеры чего мы видим в повестях «Клара Милич» И. С. Тургенева и «Поворот винта» Генри Джеймса. Второй – это индуистский и пифагорейский миф о переселении душ, о возможности вспомнить свои прошлые жизни и тем самым восстановить единство истории, получить власть над историей – уже Пифагор, первый в Европе сторонник переселения душ, считал себя политическим лидером.
В настоящее время оба принципа стали уделом низкого уровня массовой культуры: ненадежный рассказчик растворился в монтаже массового кинематографа, где мы не сразу догадываемся, что перед нами – сон героя или один из возможных сценариев будущего, а «кем ты был в прошлой жизни» – тема для самых дешевых газет. Но в 1915 году и то и другое было в новинку – кинематограф только начал браться за серьезные темы (и не случайно «Голем» несколько раз был экранизирован еще в эпоху немого кино), а буддизм и неоиндуизм существовали в авторских трактовках Е. П. Блаватской или А. Безант, а не как основа новых литературных произведений или дух эпохи; да и сам Майринк стал называть себя верующим буддистом только в конце 1920-х годов.
В романе есть многое: и мнимый автобиографизм – например, главный герой попадает в тюрьму по ложному обвинению, и самый распространенный волшебный предмет – шляпа, и то, что сейчас, применительно к кино, называют макгаффином – предмет, вокруг которого кружится все действие: книга каббалистических рецептов, врученная герою самим Големом. Вещи говорят от лица людей, волшебными помощниками могут тоже оказаться ожившие вещи, влюбленность оказывается частью какого-то более масштабного сценария, который едва ли может постичь сам герой, а встреча с историей предполагает знакомство с самыми разными колоритными фигурами.
Предание о Големе, которое лежит в основе сюжета, основано на представлении, что Адам был одушевлен словом Божиим, а следовательно, хороший знаток Библии, знающий наизусть Священное Писание, может вольно или невольно оживить кусок глины. Другое дело, что любое беспамятство хозяина этого искусственного слуги может привести к печальным последствиям: тот перестанет слушаться, станет неуправляемым роботом без программы. Здесь мы видим, что это предание тесно связано с западным «искусством памяти» («театром памяти»), которое существовало в античной риторике как практический навык запоминать текст целиком на основе пространственных ассоциаций, а в ренессансной науке, от Марсилио Фичино до Джордано Бруно, стало пониматься как магический способ овладения миром благодаря умению помнить все детали.
Конечно, думать, что пражские каббалисты из гетто действительно пытались создать искусственных людей – все равно что предполагать, что Пушкин приносил в одном из своих имений настоящие жертвы Аполлону или что Эйнштейн и в быту считал все относительным. На самом деле каббалистическое искусство знания букв, определяющих строение мироздания, – результат столкновения еврейства с эллинистическим миром: на рубеже эр для многих евреев родным языком был уже греческий. От греков иудеи узнали, что буквы могут быть цифрами, условными символами, и что можно идти из пункта А в пункт Б – встреча с философией не меньше потрясала воображение, чем в наши дни – знакомство с коллайдером, телескопами и новейшими медицинскими технологиями. Достаточно было при этом начать уточнять, как именно мир был «сотворен» и что значит «творить», – и начальная форма каббалы уже готова.
Конечно, многовековые перипетии каббалы – тема не для одной книги, и если для Майринка была актуальна сама каббала, а не разрозненные слухи о ней, то прежде всего в виде трактата «Зогар» XIII века и системы Ицхака Лурии XVI века, которые и вошли в эзотерический канон. Основной смысл и того и другого учения был прост и вместе с тем безумно сложен – познание есть прежде всего экстатическое озарение, мало что меняющее в мире, но преображающее прежде всего адепта. Ни одна книга не остановит войны, но она создаст человека, который смотрит на войны иначе, уже просветленным взглядом. Каббалисты, так же как исихасты в православии, францисканцы в католичестве, суфии в исламе, в том же XIII веке реформировали образы тела и образы искусства: спасение происходит здесь и сейчас, прямо на наших глазах разыгрывается основная драма истории, и сколь бы ни был мал на земле человек, ум его вместит мир как книгу, а книгу – как мир. Не случайно переводчиком этой книги на русский язык стал трудолюбивейший Давид Выгодский, двоюродный брат великого психолога Льва Выготского, который и увидел во взрослении человека не просто созревание характера, а ряд роковых и определяющих встреч с самим собой.
Тогда образ книги с эзотерическими рисунками, которую читает и пытается запомнить главный герой, становится ясен – это то, что становится частью тела человека, как библейские пророки и Иоанн Богослов в «Апокалипсисе» выпивают книгу и благодаря этому становятся свидетелями и участниками истории. Поэтому тема романа позволяет Майринку заменить обычный для романтизма мотив угрожающего хозяину двойника-призрака («доппельгангера», как Тень у Андерсена или Нос у Гоголя) неоромантическим мотивом иной реальности, Голема, который уже вписан не в личную судьбу человека, страдающего в эпоху больших исторических изменений, но в сами исторические изменения, а личная судьба как таковая вообще ставится под вопрос. Теперь не Голем преследует Человека, но Человек видит в себе Голема, ощущает себя Големом, и поэтому Атанасиус Пернат пытается изготовить новый магический предмет, камею, который и освободит его. Конечно, такое видение себя в качестве своего же двойника во многом обязано эффекту кинематографа, когда ты оказываешься внутри кинозала и как бы видим теми, кто смотрит на тебя с экрана, но такое признание личной судьбы как дробной, явленной на экране, в сновидении, стало общим местом для многих произведений XX века. Имя Ата-насиуса Перната, кстати, отсылает к Афаназию Кирхеру, ватиканскому ученому XVII века, знатоку каббалы и изобретателю волшебного фонаря – прототипа кинематографического аппарата.
Чтение «Голема» в наши дни – это без преувеличения лучший способ вспомнить главные поворотные моменты искусства XX века: развитие детектива и триллера, сериала со множеством странных героев и кино о путешествии во времени, но также и появление экспрессионизма, сюрреализма, беспредметного искусства, обоснование психоанализа и квантовой физики. Проходя через лабиринт этой книги, неожиданно выброшенные в ее новые измерения, мы узнаем многое, что не узнали бы, просто читая бестселлеры, и прежде всего – какая отвага стоит за всеми этими поворотами XX столетия. Скромный писатель раскрывает нам горестный XX век как эпоху смелости, и благодарить за это мы начинаем уже с первых страниц.
Александр Марков, профессор РГГУ
Голем
I. Сон
Лунный свет падает на край моей постели и лежит там большой сияющей плоской плитой.
Когда лик полной луны начинает ущербляться и правая его сторона идет на убыль – точно лицо, приближающееся к старости, сперва покрывается морщинами и начинает худеть, – в такие часы мной овладевает тяжелое и мучительное беспокойство.
Я не сплю и не бодрствую, и в полусне в моем сознании смешивается пережитое с прочитанным и слышанным, словно стекаются струи разной окраски и ясности.
Перед сном я читал о жизни Будды Готамы, и теперь на тысячу ладов проносятся в моем сознании, постоянно возвращаясь к началу, следующие слова: «Ворона слетела к камню, который походил на кусок сала, и думала: здесь что-то вкусное. Но не найдя ничего вкусного, она отлетела прочь. Подобно вороне, спустившейся к камню, покидаем мы – ищущие – аскета Готаму, потеряв вкус к нему».
И образ камня, походившего на кусок сала, вырастает в моем мозгу неимоверно.
Я ступаю по руслу высохшей реки и собираю гладкие камешки.
Серо-синие камни с выкрапленной поблескивающей пылью, над которыми я размышляю и размышляю и все-таки не знаю, что с ними предпринять, – затем черные, с желтыми, как сера, пятнами, как окаменевшие попытки ребенка вылепить грубую пятнистую ящерицу.
И мне хочется отбросить их далеко от себя, эти камешки, но они выпадают все у меня из рук, из поля зрения моего не могу их прогнать.
Все камни, которые когда-либо играли роль в моей жизни, встают и обступают меня.
Одни, как крупные, аспидного цвета крабы, перед возвращающимся приливом, напрягая силы, стараются выкарабкаться из песка на свет, всячески стремятся обратить на себя мой взор, чтобы поведать мне о чем-то бесконечно важном.
Другие, истощенные, бессильно падают назад, в свои ямы, и отказываются когда-либо что-нибудь сказать.
Время от времени я выхожу из сумерек этого полусна и на мгновение вижу снова на выпученном краю моего одеяла лунный свет, лежащий большой сияющей плоской плитой, чтобы затем в закоулках вновь ускользающего сознания беспокойно искать мучающий меня камень, что где-то, в отбросах моего воспоминания, лежит, похожий на кусок сала.
Возле него на земле, вероятно, когда-то помещалась водосточная труба – рисую я себе, – загнутая под тупым углом, с краями, изъеденными ржавчиной, и упорно я стараюсь разбудить в своем сознании такой образ, который обманул бы мои вспугнутые мысли и убаюкал бы их.
Это мне не удается.
Все снова и снова, с бессмысленным упорством, неутомимо, как ставень, которым ветер через равные промежутки времени бьет в стену, твердит во мне упрямый голос: это совсем не то, это вовсе не тот камень, который похож на кусок сала.
От этого голоса не отделаться.
Хоть бы сто раз я доказывал себе, что это совершенно не важно, он умолкает на одно мгновение, потом опять незаметно просыпается и настойчиво начинает сызнова: хорошо, хорошо, пусть так, но это все же не камень, похожий на кусок сала.
Постепенно мною овладевает невыносимое чувство полной беспомощности.
Что дальше произошло, не знаю. Добровольно ли я отказался от всякого сопротивления, или они – мои мысли – меня одолели и покорили.
Знаю только, что мое тело лежит спящим в постели, а мое сознание отделилось от него и больше с ним не связано.
Кто же теперь мое Я? Хочется вдруг спросить, но тут я соображаю, что у меня нет больше органа, посредством которого я мог бы вопрошать, и я начинаю бояться, что глупый голос снова проснется во мне и снова начнет бесконечный допрос о камне и сале.