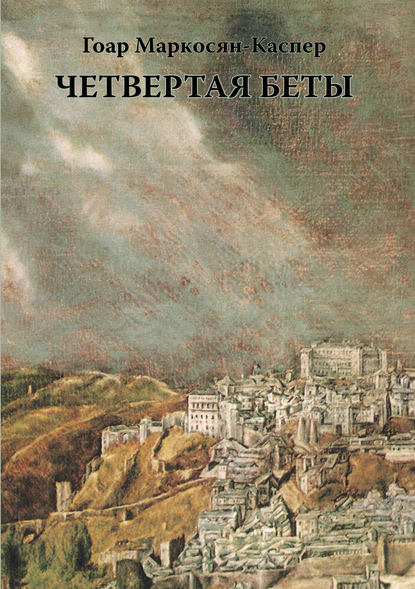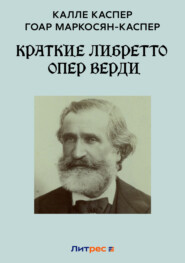По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Четвертая Беты
Серия
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– При Роне Льве его не трогали. Просто замалчивали. А при Изии объявили вне закона. И приговорили к изгнанию. Тогда он пришел на площадь Расти… это центральная площадь Бакны…
– Была, – с горечью поправил его Поэт.
– Была, – послушно повторил Дор. – Он пришел на площадь Расти и выстрелил себе в висок. И после этого…
– После этого, – подхватил Поэт, откладывая ситу, – объявили вне закона все, что он создал, и само его имя. Но уничтожить то, что он написал, оказалось невозможно, его книги и, особенно, эта… – он с неожиданной нежностью провел рукой по обложке лежавшего рядом с ним на грубом одеяле толстого тома, – были везде, в каждом доме. Потребовали сдать их – никто не сдал. Им удалось изъять только то, что было в библиотеках и лавках, но это ведь лишь малая часть. Они вычеркнули его имя из всех справочников и энциклопедий, запретили его произносить… ну и что? Изий добился своего и не добился, Вен Лес исчез, но появился Мастер – так его называли ученики, когда он был жив, теперь его так называют миллионы бакнов… появился Мастер, и неизвестно, кто пострадал, ведь людей с именами много, а Мастер – один…
– Как и Поэт, – усмехнулся Дан.
Поэт улыбнулся.
– Хочешь упрекнуть меня в нескромности? Дор подтвердит – не я первый стал называть себя Поэтом. Кстати, я пришел пригласить вас в Старый Зал. Я пою там сегодня. Пойдете? Или Ника не в настроении?
Дан оглянулся на Нику, с удивлением отметив ее побледневшее лицо и потерянный вид… У нее как будто даже слезы на глазах!..
– Что с тобой? – спросил он тревожно. – Что-нибудь случилось?
– Боже мой, – сказала Ника. – Боже мой, Дан, какой ты все-таки иногда… толстокожий…
Она резко повернулась и выбежала из комнаты.
Старый Зал оказался огромной каменной чашей. Кривизна чаши была гиперболической, и снаружи ее обвивало множество лестниц, заканчивавшихся арками изысканно неправильных очертаний. Сверху чашу накрывала плоская крышка все из того же стекла, по периметру вырезанная вытянутыми, как у ромашки, лепестками, просветы между которыми служили входами, виднелись и другие, казалось, произвольно разбросанные на разных уровнях проемы. Внутри чаша была полна, в ней, тесно прижавшись друг к другу, сидели несколько тысяч человек – всех возрастов, всех человеческих типов. Ни одного свободного места. Сидели и на лестницах, вначале Дану даже показалось, что в зале нет проходов, потом, присмотревшись, он понял, что от сцены – небольшой круглой площадки в центре, так сказать, на донышке чаши, радиально во все стороны идут лестницы, плавно поднимающиеся до самого верха, до вырезов в крыше. Кое-где от главных лестниц ответвлялись более узкие, заканчивавшиеся у замеченных им ранее проемов и отсекавшие от общей массы сидений небольшие, причудливой формы островки.
Поэт попросил сидевших у входа на средний ярус потесниться, те подвинулись, Дан и Ника с трудом втиснулись с краю, Дор примостился рядом выше. Все было обставлено чрезвычайно просто. Усадив своих гостей, Поэт посмотрел на часы и стал пробираться вниз по лестнице. Спускался он медленно, без всякой торжественности, останавливался поздороваться со знакомыми, извиниться перед теми, кто вставал, чтобы дать ему пройти. Добравшись до сцены, он вышел на ее середину, поднял руку, и в тот же миг в зале воцарилась абсолютная тишина. Тогда он снял с плеча ситу и запел. Начал он с юмористической песенки о некоем любителе тийну, который спьяну забрел в чужую квартиру к чужой жене и наутро объясняется со своей. Смешная перебранка между супругами на первый взгляд не содержала никакого подтекста. Муж доказывал жене, что в их Доме одинаковые подъезды, одинаковые квартиры, стены, мебель, на грозный вопрос супруги относительно нее самой он ответил тирадой о прелестях новой униформы, жена ядовито поинтересовалась той минутой, когда униформа была сброшена, и муж с готовностью объяснил ей, что вечером в кабачке слышал о новом указе – всех постричь, покрасить, подравнять, всех унифицировать… Голос у Поэта был сильный, скорее мужественный, нежели красивый, пел он подряд, без передышки, сам объявлял очередную песню, иногда сопровождая ее комментариями, чаще краткими, изредка пространными. Песни оказались удивительно мелодичными, тексты относительно несложными, он явно придавал больше значения не форме, а содержанию, весьма рискованному, надо сказать, даже после столь недолгого пребывания в Бакне Дан уже это понимал. Большинство песен было хорошо знакомо аудитории, названия встречались бурными аплодисментами, удивительно, но аплодисменты бытовали и здесь. Поэт отвечал на них легким, без подобострастия, кивком головы, не прерывал их, а, отрешенно перебирая струны, ждал тишины. Время от времени он откладывал ситу на маленький стульчик, стоявший на сцене, и читал стихи. Стихи у него были какие-то другие, насыщенные сложными метафорами – Дану не всегда удавалось уловить оттенки, ритмы рваные, судорожные. Между тем, стало темнеть. Искусственного освещения в зале, видимо, не предусматривалось, во всяком случае, не было ни ламп, ни прожекторов. Наконец сумерки сменились полной темнотой, Дан ожидал, что концерт на этом закончится, и вдруг в зале снова стало светло. Он огляделся. Тысячи узких лучей пронизывали мрак, отражались от странного, отнюдь не похожего на зеркальное, стекла над залом и, сходясь, освещали пространство в центре сцены, где стоял Поэт. Присмотревшись, Дан понял, что лучи эти идут от карманных фонариков, которые, как по команде, вытащили и включили тысячи людей. Поэт продолжал петь, словно не заметив перемены. Последняя песня оказалась той самой, строку из которой намертво запомнил Дан. «И дома умирают, как люди». Допев, Поэт резко опустил ситу и сказал:
– Эту песню я посвящаю памяти великого Расти. Мир земле, в которой он покоится.
Он склонил голову и коснулся правой рукой левого плеча, и тысячи человек единым движением встали, повторяя вслед за ним его жест. Прошла минута. Поэт опустил руку, выпрямился и негромко сказал:
– Спасибо вам.
Зал ответил ему взрывом аплодисментов. Аплодировали стоя, подняв руки над головой, фонарики все поставили на пол, зрелище получилось феерическое – множество темных фигур, подсвеченных снизу, словно стоящих в огне, и одинокий силуэт в столбе света, падающего сверху. Поэт был неподвижен. Это могло бы длиться бесконечно, но ему словно надоело, он поднял руку, сказал в разом наступившую тишину: «Спасибо», подхватил свою ситу и шагнул со сцены в расступившуюся перед ним толпу. Прошел быстрым шагом сквозь коридор аплодирующих людей и исчез в одном из нижних проемов.
Когда Дан, Ника и Дор вышли на одну из наружных лестниц, они увидели в тусклом свете редких лампочек огромную толпу.
– Что они тут делают? – удивилась Ника.
– Слушают, – объяснил Дор. – Зал слишком мал, туда попала лишь часть желающих.
– Неужели тут слышно?
– Да. Конечно, не так, как в зале, но слышно. Почти на пятьсот шагов. Это единственный такой зал в Бакнии, его строил тоже старый Расти. В те времена искусство поэтов не имело соперников, театр, музыка, лишенная слов, были еще малоизвестны, и на концерты поэтов собиралось невиданное количество слушателей.
– Так у вас все поэты поют? – поразилась Ника. – Но Поэт тоже иногда просто читал стихи.
– Это новые веяния. Совсем новые, их существование измеряется жизнью одного-двух поколений.
Они были еще высоко над землей, когда на нижней лестнице появился Поэт, и вся округа взорвалась аплодисментами. Когда же он спустился вниз, к нему подошла девушка в светлом платье и протянула длинную гибкую ветку с темными листьями, покрытую мелкими белыми цветами. За ней еще и еще, когда Дан с Никой и Дором пробрались к нему, в руках его была уже целая охапка, увидев их, он обрадованно улыбнулся и отдал цветы Нике. Лицо у него было усталое и счастливое. Когда он протянул букет Нике, Дан внутренне напрягся… и вдруг вспомнил, что за два часа Поэт не прочел и не спел ни одной строчки о любви. Его песни были о чем угодно – о деревенском учителе, о покалеченном солдате, о войне, о дружбе, о тоске, о скитаниях, о разобщенности, о единстве – о чем угодно, только не о любви. И странно успокоенный этим Дан даже не отреагировал на вопрос «тебе понравилось?», адресованный Нике – не им, а ей одной…
Ника не успела ответить.
– Ты был неподражаем. – Твердый насмешливый голос прозвучал за спиной Поэта. Тот стремительно обернулся.
– Маран!
– Да, дорогой друг.
– Ты был в зале?
– А ты на это не рассчитывал?
Поэт пожал плечами.
– Я не выбирал слушателей. Я пою для всех.
– Очень благородно с твоей стороны. Если б ты еще испрашивал разрешение государства выступать в зале, который ему принадлежит…
– Мне помнится, совсем недавно Изий заявил во время какой-то речи, что государству не нужно подобное старье, государству нужен гигантский земельный участок, который занят под эту, видите ли, рухлядь…
– Это еще не значит, что ты можешь использовать зал для собственных нужд.
– Каких собственных нужд, гражданин начальник спецотдела? Останови любого и спроси… впрочем, ты это и так прекрасно знаешь… Никто из тех, кто пришел сюда сегодня, вообще никто из тех, кто когда-либо приходил на мои вечера, не платил ни монетки. Я пою бесплатно.
– Это мне известно. Я не об этом.
– О чем же?
– О политических демонстрациях.
– Ты имеешь в виду мою песню памяти Расти?
– Разве ты знаешь за собой только это?
– Я не знаю за собой ничего, противоречащего чести и совести.
– Я тебя предупредил, Поэт.
– Благодарю за предупредительность, Маран.
– Ладно… – Маран вдруг изменил тон. – Все это частности. У меня есть предложение – посидеть за чашкой тийну.
– С тобой?
– Да, со мной. Или вы боитесь? Вы же видите, я один.
– Кто тебя знает, один ты или?.. – пробормотал Дор.
– Даю слово.
– Была, – с горечью поправил его Поэт.
– Была, – послушно повторил Дор. – Он пришел на площадь Расти и выстрелил себе в висок. И после этого…
– После этого, – подхватил Поэт, откладывая ситу, – объявили вне закона все, что он создал, и само его имя. Но уничтожить то, что он написал, оказалось невозможно, его книги и, особенно, эта… – он с неожиданной нежностью провел рукой по обложке лежавшего рядом с ним на грубом одеяле толстого тома, – были везде, в каждом доме. Потребовали сдать их – никто не сдал. Им удалось изъять только то, что было в библиотеках и лавках, но это ведь лишь малая часть. Они вычеркнули его имя из всех справочников и энциклопедий, запретили его произносить… ну и что? Изий добился своего и не добился, Вен Лес исчез, но появился Мастер – так его называли ученики, когда он был жив, теперь его так называют миллионы бакнов… появился Мастер, и неизвестно, кто пострадал, ведь людей с именами много, а Мастер – один…
– Как и Поэт, – усмехнулся Дан.
Поэт улыбнулся.
– Хочешь упрекнуть меня в нескромности? Дор подтвердит – не я первый стал называть себя Поэтом. Кстати, я пришел пригласить вас в Старый Зал. Я пою там сегодня. Пойдете? Или Ника не в настроении?
Дан оглянулся на Нику, с удивлением отметив ее побледневшее лицо и потерянный вид… У нее как будто даже слезы на глазах!..
– Что с тобой? – спросил он тревожно. – Что-нибудь случилось?
– Боже мой, – сказала Ника. – Боже мой, Дан, какой ты все-таки иногда… толстокожий…
Она резко повернулась и выбежала из комнаты.
Старый Зал оказался огромной каменной чашей. Кривизна чаши была гиперболической, и снаружи ее обвивало множество лестниц, заканчивавшихся арками изысканно неправильных очертаний. Сверху чашу накрывала плоская крышка все из того же стекла, по периметру вырезанная вытянутыми, как у ромашки, лепестками, просветы между которыми служили входами, виднелись и другие, казалось, произвольно разбросанные на разных уровнях проемы. Внутри чаша была полна, в ней, тесно прижавшись друг к другу, сидели несколько тысяч человек – всех возрастов, всех человеческих типов. Ни одного свободного места. Сидели и на лестницах, вначале Дану даже показалось, что в зале нет проходов, потом, присмотревшись, он понял, что от сцены – небольшой круглой площадки в центре, так сказать, на донышке чаши, радиально во все стороны идут лестницы, плавно поднимающиеся до самого верха, до вырезов в крыше. Кое-где от главных лестниц ответвлялись более узкие, заканчивавшиеся у замеченных им ранее проемов и отсекавшие от общей массы сидений небольшие, причудливой формы островки.
Поэт попросил сидевших у входа на средний ярус потесниться, те подвинулись, Дан и Ника с трудом втиснулись с краю, Дор примостился рядом выше. Все было обставлено чрезвычайно просто. Усадив своих гостей, Поэт посмотрел на часы и стал пробираться вниз по лестнице. Спускался он медленно, без всякой торжественности, останавливался поздороваться со знакомыми, извиниться перед теми, кто вставал, чтобы дать ему пройти. Добравшись до сцены, он вышел на ее середину, поднял руку, и в тот же миг в зале воцарилась абсолютная тишина. Тогда он снял с плеча ситу и запел. Начал он с юмористической песенки о некоем любителе тийну, который спьяну забрел в чужую квартиру к чужой жене и наутро объясняется со своей. Смешная перебранка между супругами на первый взгляд не содержала никакого подтекста. Муж доказывал жене, что в их Доме одинаковые подъезды, одинаковые квартиры, стены, мебель, на грозный вопрос супруги относительно нее самой он ответил тирадой о прелестях новой униформы, жена ядовито поинтересовалась той минутой, когда униформа была сброшена, и муж с готовностью объяснил ей, что вечером в кабачке слышал о новом указе – всех постричь, покрасить, подравнять, всех унифицировать… Голос у Поэта был сильный, скорее мужественный, нежели красивый, пел он подряд, без передышки, сам объявлял очередную песню, иногда сопровождая ее комментариями, чаще краткими, изредка пространными. Песни оказались удивительно мелодичными, тексты относительно несложными, он явно придавал больше значения не форме, а содержанию, весьма рискованному, надо сказать, даже после столь недолгого пребывания в Бакне Дан уже это понимал. Большинство песен было хорошо знакомо аудитории, названия встречались бурными аплодисментами, удивительно, но аплодисменты бытовали и здесь. Поэт отвечал на них легким, без подобострастия, кивком головы, не прерывал их, а, отрешенно перебирая струны, ждал тишины. Время от времени он откладывал ситу на маленький стульчик, стоявший на сцене, и читал стихи. Стихи у него были какие-то другие, насыщенные сложными метафорами – Дану не всегда удавалось уловить оттенки, ритмы рваные, судорожные. Между тем, стало темнеть. Искусственного освещения в зале, видимо, не предусматривалось, во всяком случае, не было ни ламп, ни прожекторов. Наконец сумерки сменились полной темнотой, Дан ожидал, что концерт на этом закончится, и вдруг в зале снова стало светло. Он огляделся. Тысячи узких лучей пронизывали мрак, отражались от странного, отнюдь не похожего на зеркальное, стекла над залом и, сходясь, освещали пространство в центре сцены, где стоял Поэт. Присмотревшись, Дан понял, что лучи эти идут от карманных фонариков, которые, как по команде, вытащили и включили тысячи людей. Поэт продолжал петь, словно не заметив перемены. Последняя песня оказалась той самой, строку из которой намертво запомнил Дан. «И дома умирают, как люди». Допев, Поэт резко опустил ситу и сказал:
– Эту песню я посвящаю памяти великого Расти. Мир земле, в которой он покоится.
Он склонил голову и коснулся правой рукой левого плеча, и тысячи человек единым движением встали, повторяя вслед за ним его жест. Прошла минута. Поэт опустил руку, выпрямился и негромко сказал:
– Спасибо вам.
Зал ответил ему взрывом аплодисментов. Аплодировали стоя, подняв руки над головой, фонарики все поставили на пол, зрелище получилось феерическое – множество темных фигур, подсвеченных снизу, словно стоящих в огне, и одинокий силуэт в столбе света, падающего сверху. Поэт был неподвижен. Это могло бы длиться бесконечно, но ему словно надоело, он поднял руку, сказал в разом наступившую тишину: «Спасибо», подхватил свою ситу и шагнул со сцены в расступившуюся перед ним толпу. Прошел быстрым шагом сквозь коридор аплодирующих людей и исчез в одном из нижних проемов.
Когда Дан, Ника и Дор вышли на одну из наружных лестниц, они увидели в тусклом свете редких лампочек огромную толпу.
– Что они тут делают? – удивилась Ника.
– Слушают, – объяснил Дор. – Зал слишком мал, туда попала лишь часть желающих.
– Неужели тут слышно?
– Да. Конечно, не так, как в зале, но слышно. Почти на пятьсот шагов. Это единственный такой зал в Бакнии, его строил тоже старый Расти. В те времена искусство поэтов не имело соперников, театр, музыка, лишенная слов, были еще малоизвестны, и на концерты поэтов собиралось невиданное количество слушателей.
– Так у вас все поэты поют? – поразилась Ника. – Но Поэт тоже иногда просто читал стихи.
– Это новые веяния. Совсем новые, их существование измеряется жизнью одного-двух поколений.
Они были еще высоко над землей, когда на нижней лестнице появился Поэт, и вся округа взорвалась аплодисментами. Когда же он спустился вниз, к нему подошла девушка в светлом платье и протянула длинную гибкую ветку с темными листьями, покрытую мелкими белыми цветами. За ней еще и еще, когда Дан с Никой и Дором пробрались к нему, в руках его была уже целая охапка, увидев их, он обрадованно улыбнулся и отдал цветы Нике. Лицо у него было усталое и счастливое. Когда он протянул букет Нике, Дан внутренне напрягся… и вдруг вспомнил, что за два часа Поэт не прочел и не спел ни одной строчки о любви. Его песни были о чем угодно – о деревенском учителе, о покалеченном солдате, о войне, о дружбе, о тоске, о скитаниях, о разобщенности, о единстве – о чем угодно, только не о любви. И странно успокоенный этим Дан даже не отреагировал на вопрос «тебе понравилось?», адресованный Нике – не им, а ей одной…
Ника не успела ответить.
– Ты был неподражаем. – Твердый насмешливый голос прозвучал за спиной Поэта. Тот стремительно обернулся.
– Маран!
– Да, дорогой друг.
– Ты был в зале?
– А ты на это не рассчитывал?
Поэт пожал плечами.
– Я не выбирал слушателей. Я пою для всех.
– Очень благородно с твоей стороны. Если б ты еще испрашивал разрешение государства выступать в зале, который ему принадлежит…
– Мне помнится, совсем недавно Изий заявил во время какой-то речи, что государству не нужно подобное старье, государству нужен гигантский земельный участок, который занят под эту, видите ли, рухлядь…
– Это еще не значит, что ты можешь использовать зал для собственных нужд.
– Каких собственных нужд, гражданин начальник спецотдела? Останови любого и спроси… впрочем, ты это и так прекрасно знаешь… Никто из тех, кто пришел сюда сегодня, вообще никто из тех, кто когда-либо приходил на мои вечера, не платил ни монетки. Я пою бесплатно.
– Это мне известно. Я не об этом.
– О чем же?
– О политических демонстрациях.
– Ты имеешь в виду мою песню памяти Расти?
– Разве ты знаешь за собой только это?
– Я не знаю за собой ничего, противоречащего чести и совести.
– Я тебя предупредил, Поэт.
– Благодарю за предупредительность, Маран.
– Ладно… – Маран вдруг изменил тон. – Все это частности. У меня есть предложение – посидеть за чашкой тийну.
– С тобой?
– Да, со мной. Или вы боитесь? Вы же видите, я один.
– Кто тебя знает, один ты или?.. – пробормотал Дор.
– Даю слово.