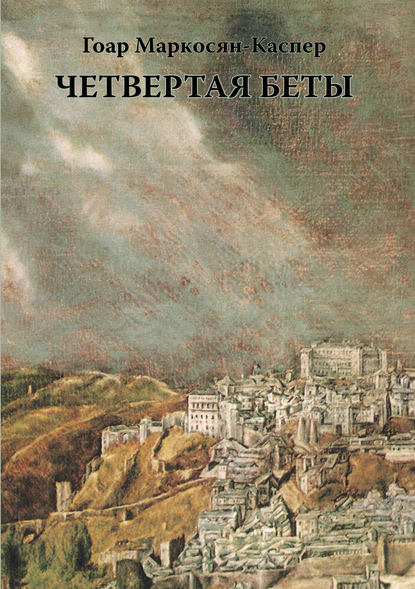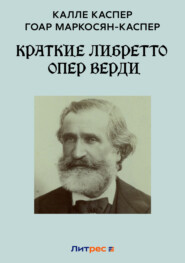По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Четвертая Беты
Серия
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Привет, Поэт.
– Привет.
– Ты в шестнадцатый номер, как всегда? А эти двое с тобой?
– Со мной. Я хотел просить тебя не регистрировать нас.
– Всех троих? – Охранник заколебался. – Ладно. Идите. Только я в полночь сменяюсь, если задержитесь, вас остановят на выходе. И меня подведете.
– Не задержимся. Слово Поэта.
– Идите.
Поднялись на четвертый этаж. Одна из шести дверей, выходивших на лестничную площадку, была приотворена, и Поэт открыл ее без стука.
– Входите.
Узенький коридорчик, еще четыре двери, две открыты настежь, за ними смежные маленькие комнаты, в первой несколько стульев, одинокое кресло, круглый стол, что-то вроде софы или тахты, явно жесткой, можно не проверять, на тахте теснятся пять человек, еще четверо устроились на стульях, слушают… рояль?! Вторая комната, отделенная от первой широким проемом, почти целиком занята громоздким инструментом, удивительно напоминающим рояль, разве что крышка не поднята и, кажется, вообще не поднимается.
Пианист – высокий… по бакнианским меркам, конечно… похожий на цаплю человек с непомерно длинными руками и ногами, играл, выставив локти под непривычно острым углом. Сначала Нику больше занимала эта странная техника, но потом она втянулась, по спине пробежали мурашки. Красота музыки была сродни красоте заснеженных гималайских вершин, такая же острая и холодная. Пианист взял последний аккорд, откинулся на спинку стула – у Ники возникло ощущение, что сейчас он встанет, пронесет себя к выходу и растает в дверном проеме, казалось, и у остальных было такое же чувство, тишина стояла потусторонняя, и только когда пианист, вынув носовой платок, стал вытирать лоб, все зашевелились, заговорили, и Ника очнулась. Видимо, автором исполняемого произведения был один из присутствующих, его окружили, стали что-то наперебой говорить. И вдруг Нике стало легко и покойно, впервые за эти месяцы она перестала чувствовать себя чужой, оказывается, эти люди были такими же, как она…
– Ника, ты хотела знать, что такое Дом. Дина тебе покажет. И расскажет.
Ника подняла глаза на Поэта, тот улыбался, он тоже был среди своих, и это чувство роднило их.
Дина провела ее в крошечную кухоньку, санузел – все очень скромно, если не сказать, бедно, но чисто. Эмалированная раковина, короткий кран, плита… от плиты веяло чем-то прабабушкиным…
– У вас две комнаты?
– У всех по две комнаты. Это такой Дом. А рядом Дом с однокомнатными квартирами. В каждом по нескольку тысяч квартир. А самих Домов пока два… – она помолчала и неожиданно добавила: – К счастью.
– Почему? – не поняла Ника.
Хозяйка заколебалась.
– Дома это часть Великого Плана, – сказала она наконец.
– А что такое Великий План? – спросила Ника.
Хозяйка не удивилась, наверно, Поэт предупредил ее.
– Идем в комнату.
Она провела Нику в комнатку, где стоял «рояль». Часть стены была задрапирована простенькой занавеской. Прикрыв дверь, Дина отдернула ее. Ника ахнула. Стена была увешана не то репродукциями с рисунков, не то самими рисунками, в тусклом свете не разберешь. И на всех – дворцы… а может, храмы?.. площади, парки, павильоны, фонтаны…
– Я архитектор, – сказала Дина с тоской. – Я архитектор, а мой муж художник, это его работы. Если о них узнают, нам несдобровать. Взгляни…
Ника сразу узнала дворец. Он был центром архитектурного ансамбля, в обе стороны от него расходились, обнимая удлиненную сторону овала, здания поменьше, но варьирующие те же мотивы, а в концах, где овал заострялся, стояли высокие узкие сооружения, хрупкие на вид. Вглядевшись, Ника увидела, что обе башни увешаны гроздьями совершенно прозрачных колоколов, она догадалась, что это колокола, хотя они были почти круглые…
– Они стеклянные?
– Да. Стеклянные и очень тонкие, они звенели на ветру. Видишь, еще, в том углу? Это строил прадед моего прадеда, великий Расти, гордость нашего рода. Он прославил наше имя, этот стиль так и назывался: стиль Расти. Люди приходили пешком из всех концов страны увидеть его творения. Он был странным человеком, не брал плату за свой труд. Он считал, что наградой ему те строения, которые он воздвигает, и верил, что Создатель Всего Сущего отнимет ниспосланный ему дар, если он будет торговать плодами своего вдохновения. Всю жизнь он жил, где попало, питался там, где его кормили, носил одежду с чужого плеча. Будучи уже стариком, он женился на молоденькой девушке, которая увидела его в миг озарения и полюбила. Его единственный сын тоже стал архитектором, конечно, не таким, как отец, гений неповторим, архитекторами были и его сын и сын его сына. Мой дед и мой отец тоже создавали дворцы, а я… я строю Дома… – ее голос дрогнул, Ника шагнула к ней, порывисто обняла. – Поэт сказал мне, что вы были на площади в тот день… – горло ее перехватило спазмом.
– Были, – кивнула Ника.
– Ненавижу! – Глаза Дины засверкали. – Я убила бы его собственными руками, если б могла до него добраться!
– Кого?
– Изия. Он уничтожил дворцы Расти, сравнял с землей знаменитые парки Бакны, изуродовал фонтаны Гуммены, все он…
– Но зачем?!
– О! Он умеет жонглировать словами и морочить глупые головы. «Народу плохо живется, мы построим для народа дома, чистые и светлые, где будут вода, отопление, электричество, а чтоб было, где их строить, мы взорвем и сотрем с лица земли всю эту бесполезную роскошь прошлого, все эти дворцы, башни, айты»… правда, место для строительства можно б найти и без того, в конце концов, снести трущобы, но Изию это ни к чему, он хитер и дальновиден, и вот он кричит со всех трибун, что роскошь развращает взоры и души, заражает незрелые умы, ее нужно уничтожить и забыть… а трущобы – трущобы тоже пригодятся, пусть народ все время видит, из какой грязи и нищеты извлек его гениальный Изий…
– Это и есть Великий План?
– Да. Ну конечно, у них там… – Дина выразительно взглянула вверх, – выражения попышнее. Но суть та же.
– Не понимаю. Почему вы не боролись, не доказывали?
Дина посмотрела на Нику с сожалением.
– Что доказывать? Для тирана нет ничего опаснее красоты. Красота облагораживает, а следовательно, освобождает души. Пойдем лучше послушаем Поэта, он обещал спеть.
В ту ночь они никак не могли уснуть. Дан лежал на тахте, вытянувшись и закинув руки за голову, и рассуждал:
– В конце концов, Ника, в этом плане есть немало плюсов. Ты не станешь отрицать, что там действительно неплохо – аккуратно, чисто, удобно… правда, квартирки очень маленькие, но на то есть объективные причины.
– На водворение в подъездах охранников, записывающих биографию каждого гостя, тоже, конечно, есть объективные причины.
– Охранники это… Нда. Но все же. Сравни с этой развалюхой – потолок осыпается, вода во дворе, душа вообще нет…
– Для тебя все решает душ. Я тебе об идеалах, достоинстве, красоте, а ты о чем? Вода во дворе! Душ! Тоже мне чистюля.
– У тебя совершенно нет культуры полемики.
Ника обиделась.
– Это не полемика, а демагогия.
– Просто ты развесила уши, а эта твоя Дина, эмоциональная и категоричная, как все женщины, наговорила тебе кучу громких слов… впрочем, ты и сама достаточно эмоциональна и категорична и трезво рассуждать неспособна.
Ника не ответила. Причина запальчивости Дана была ей… нельзя сказать, что ясна, но… не стоит прикидываться, конечно же, ясна. Обормот несчастный! Она отвернулась от него и уткнулась лицом в тощую подушку.
– Ты спишь?
Она не спала, но уже видела сны – обрывки впечатлений минувшего вечера. Задумчивые глаза Дины, дворцы Расти, башня, увитая колоколами… где-то словно прозвенело стекло… а стекло у них было небьющееся, прочней железа, стеклянные купола стояли столетиями… «Три века назад в нашу страну вторглись варвары из западных пустынь, они были жестоки и свирепы, но даже они не тронули ни одного камня древних памятников»… это говорила Дина, а ее муж, молчаливый низкорослый человек, тревожно посматривал на нее, но не прерывал… он подарил Нике горный пейзаж величиной в ладонь… «Писать городские нам запретили, разве что Дома, – виновато сказал он, – парадных портретов я не пишу и писать не буду, остается природа – до поры, до времени». «Какой поры?» – спросила его Ника, на что он ответил со спокойной грустью: «Кто знает, какая завтра наступит пора»… Крутились лица: отрешенное – пианиста, хмурое – известного актера, улыбчивое – композитора… из них выплыло одно – лицо Поэта, мрачное, очень бледное, светло-голубые глаза моментами казались ледяными, в них было нечто тревожащее. А голос! Иногда он пел, иногда просто читал стихи, делал пятиминутные паузы, словно наслаждаясь своим могуществом – никто не нарушал молчания, не шевелился, казалось, никто не дышит, все ждали. Когда он наконец взял последний аккорд и тихо сказал: «все!», по комнате пронесся общий вздох разочарования…
– Привет.
– Ты в шестнадцатый номер, как всегда? А эти двое с тобой?
– Со мной. Я хотел просить тебя не регистрировать нас.
– Всех троих? – Охранник заколебался. – Ладно. Идите. Только я в полночь сменяюсь, если задержитесь, вас остановят на выходе. И меня подведете.
– Не задержимся. Слово Поэта.
– Идите.
Поднялись на четвертый этаж. Одна из шести дверей, выходивших на лестничную площадку, была приотворена, и Поэт открыл ее без стука.
– Входите.
Узенький коридорчик, еще четыре двери, две открыты настежь, за ними смежные маленькие комнаты, в первой несколько стульев, одинокое кресло, круглый стол, что-то вроде софы или тахты, явно жесткой, можно не проверять, на тахте теснятся пять человек, еще четверо устроились на стульях, слушают… рояль?! Вторая комната, отделенная от первой широким проемом, почти целиком занята громоздким инструментом, удивительно напоминающим рояль, разве что крышка не поднята и, кажется, вообще не поднимается.
Пианист – высокий… по бакнианским меркам, конечно… похожий на цаплю человек с непомерно длинными руками и ногами, играл, выставив локти под непривычно острым углом. Сначала Нику больше занимала эта странная техника, но потом она втянулась, по спине пробежали мурашки. Красота музыки была сродни красоте заснеженных гималайских вершин, такая же острая и холодная. Пианист взял последний аккорд, откинулся на спинку стула – у Ники возникло ощущение, что сейчас он встанет, пронесет себя к выходу и растает в дверном проеме, казалось, и у остальных было такое же чувство, тишина стояла потусторонняя, и только когда пианист, вынув носовой платок, стал вытирать лоб, все зашевелились, заговорили, и Ника очнулась. Видимо, автором исполняемого произведения был один из присутствующих, его окружили, стали что-то наперебой говорить. И вдруг Нике стало легко и покойно, впервые за эти месяцы она перестала чувствовать себя чужой, оказывается, эти люди были такими же, как она…
– Ника, ты хотела знать, что такое Дом. Дина тебе покажет. И расскажет.
Ника подняла глаза на Поэта, тот улыбался, он тоже был среди своих, и это чувство роднило их.
Дина провела ее в крошечную кухоньку, санузел – все очень скромно, если не сказать, бедно, но чисто. Эмалированная раковина, короткий кран, плита… от плиты веяло чем-то прабабушкиным…
– У вас две комнаты?
– У всех по две комнаты. Это такой Дом. А рядом Дом с однокомнатными квартирами. В каждом по нескольку тысяч квартир. А самих Домов пока два… – она помолчала и неожиданно добавила: – К счастью.
– Почему? – не поняла Ника.
Хозяйка заколебалась.
– Дома это часть Великого Плана, – сказала она наконец.
– А что такое Великий План? – спросила Ника.
Хозяйка не удивилась, наверно, Поэт предупредил ее.
– Идем в комнату.
Она провела Нику в комнатку, где стоял «рояль». Часть стены была задрапирована простенькой занавеской. Прикрыв дверь, Дина отдернула ее. Ника ахнула. Стена была увешана не то репродукциями с рисунков, не то самими рисунками, в тусклом свете не разберешь. И на всех – дворцы… а может, храмы?.. площади, парки, павильоны, фонтаны…
– Я архитектор, – сказала Дина с тоской. – Я архитектор, а мой муж художник, это его работы. Если о них узнают, нам несдобровать. Взгляни…
Ника сразу узнала дворец. Он был центром архитектурного ансамбля, в обе стороны от него расходились, обнимая удлиненную сторону овала, здания поменьше, но варьирующие те же мотивы, а в концах, где овал заострялся, стояли высокие узкие сооружения, хрупкие на вид. Вглядевшись, Ника увидела, что обе башни увешаны гроздьями совершенно прозрачных колоколов, она догадалась, что это колокола, хотя они были почти круглые…
– Они стеклянные?
– Да. Стеклянные и очень тонкие, они звенели на ветру. Видишь, еще, в том углу? Это строил прадед моего прадеда, великий Расти, гордость нашего рода. Он прославил наше имя, этот стиль так и назывался: стиль Расти. Люди приходили пешком из всех концов страны увидеть его творения. Он был странным человеком, не брал плату за свой труд. Он считал, что наградой ему те строения, которые он воздвигает, и верил, что Создатель Всего Сущего отнимет ниспосланный ему дар, если он будет торговать плодами своего вдохновения. Всю жизнь он жил, где попало, питался там, где его кормили, носил одежду с чужого плеча. Будучи уже стариком, он женился на молоденькой девушке, которая увидела его в миг озарения и полюбила. Его единственный сын тоже стал архитектором, конечно, не таким, как отец, гений неповторим, архитекторами были и его сын и сын его сына. Мой дед и мой отец тоже создавали дворцы, а я… я строю Дома… – ее голос дрогнул, Ника шагнула к ней, порывисто обняла. – Поэт сказал мне, что вы были на площади в тот день… – горло ее перехватило спазмом.
– Были, – кивнула Ника.
– Ненавижу! – Глаза Дины засверкали. – Я убила бы его собственными руками, если б могла до него добраться!
– Кого?
– Изия. Он уничтожил дворцы Расти, сравнял с землей знаменитые парки Бакны, изуродовал фонтаны Гуммены, все он…
– Но зачем?!
– О! Он умеет жонглировать словами и морочить глупые головы. «Народу плохо живется, мы построим для народа дома, чистые и светлые, где будут вода, отопление, электричество, а чтоб было, где их строить, мы взорвем и сотрем с лица земли всю эту бесполезную роскошь прошлого, все эти дворцы, башни, айты»… правда, место для строительства можно б найти и без того, в конце концов, снести трущобы, но Изию это ни к чему, он хитер и дальновиден, и вот он кричит со всех трибун, что роскошь развращает взоры и души, заражает незрелые умы, ее нужно уничтожить и забыть… а трущобы – трущобы тоже пригодятся, пусть народ все время видит, из какой грязи и нищеты извлек его гениальный Изий…
– Это и есть Великий План?
– Да. Ну конечно, у них там… – Дина выразительно взглянула вверх, – выражения попышнее. Но суть та же.
– Не понимаю. Почему вы не боролись, не доказывали?
Дина посмотрела на Нику с сожалением.
– Что доказывать? Для тирана нет ничего опаснее красоты. Красота облагораживает, а следовательно, освобождает души. Пойдем лучше послушаем Поэта, он обещал спеть.
В ту ночь они никак не могли уснуть. Дан лежал на тахте, вытянувшись и закинув руки за голову, и рассуждал:
– В конце концов, Ника, в этом плане есть немало плюсов. Ты не станешь отрицать, что там действительно неплохо – аккуратно, чисто, удобно… правда, квартирки очень маленькие, но на то есть объективные причины.
– На водворение в подъездах охранников, записывающих биографию каждого гостя, тоже, конечно, есть объективные причины.
– Охранники это… Нда. Но все же. Сравни с этой развалюхой – потолок осыпается, вода во дворе, душа вообще нет…
– Для тебя все решает душ. Я тебе об идеалах, достоинстве, красоте, а ты о чем? Вода во дворе! Душ! Тоже мне чистюля.
– У тебя совершенно нет культуры полемики.
Ника обиделась.
– Это не полемика, а демагогия.
– Просто ты развесила уши, а эта твоя Дина, эмоциональная и категоричная, как все женщины, наговорила тебе кучу громких слов… впрочем, ты и сама достаточно эмоциональна и категорична и трезво рассуждать неспособна.
Ника не ответила. Причина запальчивости Дана была ей… нельзя сказать, что ясна, но… не стоит прикидываться, конечно же, ясна. Обормот несчастный! Она отвернулась от него и уткнулась лицом в тощую подушку.
– Ты спишь?
Она не спала, но уже видела сны – обрывки впечатлений минувшего вечера. Задумчивые глаза Дины, дворцы Расти, башня, увитая колоколами… где-то словно прозвенело стекло… а стекло у них было небьющееся, прочней железа, стеклянные купола стояли столетиями… «Три века назад в нашу страну вторглись варвары из западных пустынь, они были жестоки и свирепы, но даже они не тронули ни одного камня древних памятников»… это говорила Дина, а ее муж, молчаливый низкорослый человек, тревожно посматривал на нее, но не прерывал… он подарил Нике горный пейзаж величиной в ладонь… «Писать городские нам запретили, разве что Дома, – виновато сказал он, – парадных портретов я не пишу и писать не буду, остается природа – до поры, до времени». «Какой поры?» – спросила его Ника, на что он ответил со спокойной грустью: «Кто знает, какая завтра наступит пора»… Крутились лица: отрешенное – пианиста, хмурое – известного актера, улыбчивое – композитора… из них выплыло одно – лицо Поэта, мрачное, очень бледное, светло-голубые глаза моментами казались ледяными, в них было нечто тревожащее. А голос! Иногда он пел, иногда просто читал стихи, делал пятиминутные паузы, словно наслаждаясь своим могуществом – никто не нарушал молчания, не шевелился, казалось, никто не дышит, все ждали. Когда он наконец взял последний аккорд и тихо сказал: «все!», по комнате пронесся общий вздох разочарования…