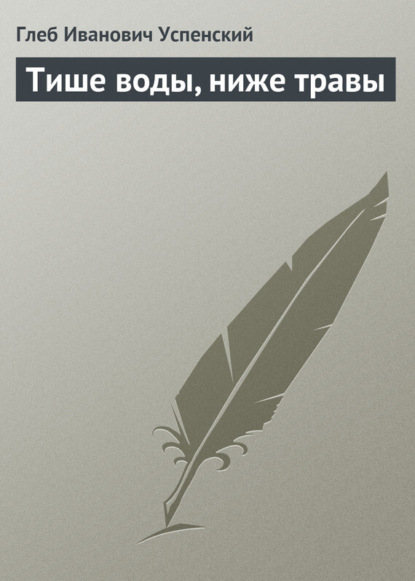По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Тише воды, ниже травы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Со смехом ему ответили, что не вышло…
– Ах, в рот те галку!.. Ну постой, я другую.
– Да будет тебе, крупа! – сказал целовальник, стукнув его по затылку. – Пропивай остачу-то да ступай на ярмарку, причитай: «безногому…» Судиться!
– Ну да ладно, – начал было солдат, повидимому намереваясь разыграть новую сцену, однако остановился и сказал: – а что, братец, ведь и так на ярмарку, пожалуй, ударишься? Барин! Пожалуй, что не сходней ли будет этак-то?.. «А-а, безру-укам-му, а-а, биз-зно-гам-му», – пропел он, как поют нищие, громко и отчаянно.
– Вот так-то!.. – одобрил целовальник среди смеха публики. – Как есть нищий!
– Да и так нищий, – подтвердили в толпе. – И зачем избу продал, старый шут?..
– Что ему в избе-то делать, хромому, – сказал целовальник и прибавил, обращаясь к солдату: – допивай, что ли, остачу-то.
– Уж и велика же остача!.. – слышалось в толпе.
На следующий день, когда мы с Иваном Николаичем собирались ехать в город, на двор вошел солдат и попросился с нами.
– Есть слушок, будто в части девчонка-то, – сказал он. – Все надыть поискать…
По всей вероятности, он уже успел истратить «остачу» от дома, взятого целовальником, был трезв, грустен, жалел об избе и не знал, что с собой делать…
– А пожалуй, что по ярмаркам пойдешь… с девчонкой-то, – говорил он в раздумье дорогой. – Ничего не сделаешь!
Мы приехали в город под вечер и прямо отправились в часть. У разрушенного каменного подъезда ветхого и ободранного здания части мы встретили пожарного солдата, который курил трубку и сквозь зубы бурчал: «нельзя!», относя эти слова к нескольким обывателям, стоявшим близ него.
– Блаженная? – отнесся он к нам. – Здесь! Надо к частному идти…
– Ну будет ломаться-то! – прервал его Иван Николаич: – авось и на пятачок выпьешь!
И дал ему пятачок. Солдат снял кепи и произнес:
– Дай бог ей, очень она нас выручает, блаженная эта. Вот двое суток, как нашли ее: нет-нет – и попадает безделица… А очень любопытствуют видеть…
По приметам блаженная оказалась солдаткиной дочерью. Ее поймали на дороге какие-то мужики и доставили в часть. Рассказывая историю находки, солдат вел нас по темному узкому коридору с ямами в каменном полу и с отвратительным казарменным запахом.
– Она у нас в темной сидит… – объяснил солдат. – Многие обижаются, что, например, блаженная, ну начальство… сами знаете… Вот тут!
Мы очутились перед маленькой запертой дверью, в которой было прорезано небольшое четвероугольное окно; солдат снял фуражку, просунул туда голову и шопотом сказал:
– Машуша, здесь ты?..
Ответа не было, только кто-то завозился в темноте. Солдат повторил вопрос.
– Жиды пришли?.. – послышался изможденный и донельзя слабый детский голос.
– Я, я, Филипп пришел!.. – говорил солдат робко.
– А у меня петух есть… – ответил голос и слабо, как самый маленький петушок, пропел: – «кукурику-у!..»
– Тронулась девка-то! – вздохнув, сказал солдат и попросил у пожарного огарочка поглядеть.
– Все больше на жидах, – объяснил пожарный, зажигая огарок: – «жиды, говорит, Христа распяли, а петух запел – он и воскрес…»
– И воскрес! – ответил из тюрьмы больной и ласковый голос. – И матка…
Зажгли свечку, и солдат приотворил нам дверь в темную. Здесь в обществе пьяной бабы, которая спала на лавке спиной к нам, и совершенно трезвого мужика, молча сидевшего в уголке и покорно ожидавшего, «что будет», на полу, грязном и мокром, сидела Машутка. Жиденькие белые волоса падали, как попало, на голые плечи; худенькими руками крепко сжимала она какую-то грязную тряпку, из которой высовывался конец деревянной ложки. Она была в одной узкой и испачканной грязью рубашке.
– Питушок у мине… – лепетала она, прижимая тряпку к груди и глядя неподвижными, но не в меру оживленными глазами. – Запоет он – все передушитесь, жиды… Запой, запой жа-а… Ра-а-диминькай!.. Христос-то воскрес тады… Сю минутучку запоет… Бежите отсюда, жиды… Луччи вам убечь…
Девочка продолжала лепетать слова и фразы в таком роде, советуя нам уйти поскорее, потому что петух запоет сию минуту: – мать воскреснет, а мы все задушимся… Мы посмотрели на нее и с тяжелым сердцем пошли вон, не зная, что предпринять.
– Жаль и кинуть! – в раздумье тосковал солдат, когда мы вышли на улицу и остановились потолковать.
Среди такого раздумья к нам подошел полицейский солдат и еще кто-то из толпы.
– А, старина! – сказал Иван Николаич одному какому-то понурому старичку. – Цел еще?
Старичок не ответил, но поклонился Ивану Николаичу и стал около нас молча.
– Вы родитель ей будете? – сказал пожарный солдату.
– Да, пожалуй, что на то найдет…
– Так вы ее долго у нас не держите… Вот что я вам скажу: она блаженная – блаженная, а тоже кормить зря не будут… начальство – нельзя!
Солдат задумался.
– Ну, – сказал Иван Николаич: – думайте! Думай, старик, а то вышвырнут, хуже будет… Жаль ведь… Надумаете – идите к Миронову в лабаз, оттуда вместе тронемся.
Мы с солдатом стали думать. Понурый старичок стоял около нас и слушал. Солдат не мог придумать ничего лучше того, что рекомендовал ему целовальник: он хотел как-нибудь перезимовать зиму, а с весны положить блаженную в тележку и тронуться с нею по ярмаркам. Никакого другого, более практического плана для них обоих нельзя было придумать.
– Ничего не поделаешь, – порешив, заключил было солдат.
Но в это время понурый старичок не спеша тронулся с своего места и, поровнявшись с солдатом, глядя в землю, буркнул:
– Вот чего… Бросить это надо… Не приходится младенцев божиих по толкучкам таскать… Не подходит это, так-то-ся!
Руки старик держал назад и, говоря это медленно и с расстановкой, слегка подергивал плечом в одну сторону и не поднимал головы.
– Кормиться надо, старина!.. Душа просит прокорму, – сказал солдат.
– Корму хватит… От господа корм-то идет… А ежели ты имеешь веру, отдай блаженную нам… Прокорм будет! Не место толковать-то… в нумерок хушь…
Не дожидаясь ответа, старичок попрежнему медленной походкой пошел в сторону, направляясь, повидимому, к харчевне. Солдат охотно поплелся за ним, обрадованный неожиданным прокормом, и я не мог отстать от них, в первый раз услыхав сочувствие к невинным страдальцам, считаемым «блаженными», которых бросать не приходится.
Все трое мы вошли в грязную харчевню с заднего крыльца. В узеньком и низком коридоре, обклеенном какими-то канцелярскими бумагами, с маленькими дверьми в душные и грязные «особенные комнаты», стоял, разговаривая с половым, молодой красивый парень в отличнейшем полушубке, с гармонией в руках. Он, видимо, подгулял, был весел и не замечал, что картуз его сидел на затылке козырьком набок. При появлении старичка он сунул гармонию половому, сдернул шапку и, сделав постную физиономию, тоном сидельца заговорил, обращаясь к старику:
– Изготовлено все-с! Пятнадцать пудов муки пшеничной, два ведра вина-с, масла…
– Ах, в рот те галку!.. Ну постой, я другую.
– Да будет тебе, крупа! – сказал целовальник, стукнув его по затылку. – Пропивай остачу-то да ступай на ярмарку, причитай: «безногому…» Судиться!
– Ну да ладно, – начал было солдат, повидимому намереваясь разыграть новую сцену, однако остановился и сказал: – а что, братец, ведь и так на ярмарку, пожалуй, ударишься? Барин! Пожалуй, что не сходней ли будет этак-то?.. «А-а, безру-укам-му, а-а, биз-зно-гам-му», – пропел он, как поют нищие, громко и отчаянно.
– Вот так-то!.. – одобрил целовальник среди смеха публики. – Как есть нищий!
– Да и так нищий, – подтвердили в толпе. – И зачем избу продал, старый шут?..
– Что ему в избе-то делать, хромому, – сказал целовальник и прибавил, обращаясь к солдату: – допивай, что ли, остачу-то.
– Уж и велика же остача!.. – слышалось в толпе.
На следующий день, когда мы с Иваном Николаичем собирались ехать в город, на двор вошел солдат и попросился с нами.
– Есть слушок, будто в части девчонка-то, – сказал он. – Все надыть поискать…
По всей вероятности, он уже успел истратить «остачу» от дома, взятого целовальником, был трезв, грустен, жалел об избе и не знал, что с собой делать…
– А пожалуй, что по ярмаркам пойдешь… с девчонкой-то, – говорил он в раздумье дорогой. – Ничего не сделаешь!
Мы приехали в город под вечер и прямо отправились в часть. У разрушенного каменного подъезда ветхого и ободранного здания части мы встретили пожарного солдата, который курил трубку и сквозь зубы бурчал: «нельзя!», относя эти слова к нескольким обывателям, стоявшим близ него.
– Блаженная? – отнесся он к нам. – Здесь! Надо к частному идти…
– Ну будет ломаться-то! – прервал его Иван Николаич: – авось и на пятачок выпьешь!
И дал ему пятачок. Солдат снял кепи и произнес:
– Дай бог ей, очень она нас выручает, блаженная эта. Вот двое суток, как нашли ее: нет-нет – и попадает безделица… А очень любопытствуют видеть…
По приметам блаженная оказалась солдаткиной дочерью. Ее поймали на дороге какие-то мужики и доставили в часть. Рассказывая историю находки, солдат вел нас по темному узкому коридору с ямами в каменном полу и с отвратительным казарменным запахом.
– Она у нас в темной сидит… – объяснил солдат. – Многие обижаются, что, например, блаженная, ну начальство… сами знаете… Вот тут!
Мы очутились перед маленькой запертой дверью, в которой было прорезано небольшое четвероугольное окно; солдат снял фуражку, просунул туда голову и шопотом сказал:
– Машуша, здесь ты?..
Ответа не было, только кто-то завозился в темноте. Солдат повторил вопрос.
– Жиды пришли?.. – послышался изможденный и донельзя слабый детский голос.
– Я, я, Филипп пришел!.. – говорил солдат робко.
– А у меня петух есть… – ответил голос и слабо, как самый маленький петушок, пропел: – «кукурику-у!..»
– Тронулась девка-то! – вздохнув, сказал солдат и попросил у пожарного огарочка поглядеть.
– Все больше на жидах, – объяснил пожарный, зажигая огарок: – «жиды, говорит, Христа распяли, а петух запел – он и воскрес…»
– И воскрес! – ответил из тюрьмы больной и ласковый голос. – И матка…
Зажгли свечку, и солдат приотворил нам дверь в темную. Здесь в обществе пьяной бабы, которая спала на лавке спиной к нам, и совершенно трезвого мужика, молча сидевшего в уголке и покорно ожидавшего, «что будет», на полу, грязном и мокром, сидела Машутка. Жиденькие белые волоса падали, как попало, на голые плечи; худенькими руками крепко сжимала она какую-то грязную тряпку, из которой высовывался конец деревянной ложки. Она была в одной узкой и испачканной грязью рубашке.
– Питушок у мине… – лепетала она, прижимая тряпку к груди и глядя неподвижными, но не в меру оживленными глазами. – Запоет он – все передушитесь, жиды… Запой, запой жа-а… Ра-а-диминькай!.. Христос-то воскрес тады… Сю минутучку запоет… Бежите отсюда, жиды… Луччи вам убечь…
Девочка продолжала лепетать слова и фразы в таком роде, советуя нам уйти поскорее, потому что петух запоет сию минуту: – мать воскреснет, а мы все задушимся… Мы посмотрели на нее и с тяжелым сердцем пошли вон, не зная, что предпринять.
– Жаль и кинуть! – в раздумье тосковал солдат, когда мы вышли на улицу и остановились потолковать.
Среди такого раздумья к нам подошел полицейский солдат и еще кто-то из толпы.
– А, старина! – сказал Иван Николаич одному какому-то понурому старичку. – Цел еще?
Старичок не ответил, но поклонился Ивану Николаичу и стал около нас молча.
– Вы родитель ей будете? – сказал пожарный солдату.
– Да, пожалуй, что на то найдет…
– Так вы ее долго у нас не держите… Вот что я вам скажу: она блаженная – блаженная, а тоже кормить зря не будут… начальство – нельзя!
Солдат задумался.
– Ну, – сказал Иван Николаич: – думайте! Думай, старик, а то вышвырнут, хуже будет… Жаль ведь… Надумаете – идите к Миронову в лабаз, оттуда вместе тронемся.
Мы с солдатом стали думать. Понурый старичок стоял около нас и слушал. Солдат не мог придумать ничего лучше того, что рекомендовал ему целовальник: он хотел как-нибудь перезимовать зиму, а с весны положить блаженную в тележку и тронуться с нею по ярмаркам. Никакого другого, более практического плана для них обоих нельзя было придумать.
– Ничего не поделаешь, – порешив, заключил было солдат.
Но в это время понурый старичок не спеша тронулся с своего места и, поровнявшись с солдатом, глядя в землю, буркнул:
– Вот чего… Бросить это надо… Не приходится младенцев божиих по толкучкам таскать… Не подходит это, так-то-ся!
Руки старик держал назад и, говоря это медленно и с расстановкой, слегка подергивал плечом в одну сторону и не поднимал головы.
– Кормиться надо, старина!.. Душа просит прокорму, – сказал солдат.
– Корму хватит… От господа корм-то идет… А ежели ты имеешь веру, отдай блаженную нам… Прокорм будет! Не место толковать-то… в нумерок хушь…
Не дожидаясь ответа, старичок попрежнему медленной походкой пошел в сторону, направляясь, повидимому, к харчевне. Солдат охотно поплелся за ним, обрадованный неожиданным прокормом, и я не мог отстать от них, в первый раз услыхав сочувствие к невинным страдальцам, считаемым «блаженными», которых бросать не приходится.
Все трое мы вошли в грязную харчевню с заднего крыльца. В узеньком и низком коридоре, обклеенном какими-то канцелярскими бумагами, с маленькими дверьми в душные и грязные «особенные комнаты», стоял, разговаривая с половым, молодой красивый парень в отличнейшем полушубке, с гармонией в руках. Он, видимо, подгулял, был весел и не замечал, что картуз его сидел на затылке козырьком набок. При появлении старичка он сунул гармонию половому, сдернул шапку и, сделав постную физиономию, тоном сидельца заговорил, обращаясь к старику:
– Изготовлено все-с! Пятнадцать пудов муки пшеничной, два ведра вина-с, масла…