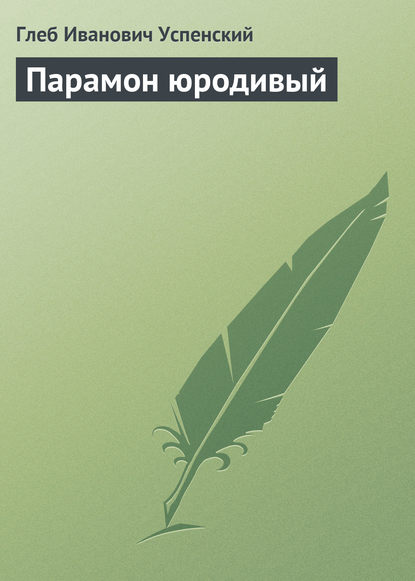По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Парамон юродивый
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Глеб Иванович Успенский
Растеряевские типы и сцены #6
«…Он так глубоко верил в будущее блаженство, так глубоко был проникнут сознанием того, что выше этой «вечной славы» ничего нет ни в жизни человека, ни на земле, ни под землей, что всякий раз, когда его мучила боль от вериг или боль от лопнувшего на огне свечки пальца, он хотя и не в силах был удержать крупных каплей пота, выступавших в это время на его лице, но был истинно счастлив, и его обыкновенное, рябое, с веснушками, мужичье лицо и его обыкновенные, маленькие белесые мужичьи глаза делались истинно прекрасными, до того прекрасными, ангельскими, что все, какие бы то ни были при этом, черствые, сухие, охолоделые души, – все чувствовали, хоть на мгновение, пробуждение чего-то детски-радостного, чего-то легкого, светлого и бесконечного. …»
Глеб Иванович Успенский
Парамон юродивый[1 - Настоящий рассказ написан гораздо позже «Растеряевой улицы». Я помещаю его, однако, в конце этих ранних очерков потому, что в нем я попытал изобразить самые существенные свойства «растеряевщины», с которыми она и вступила «в новую жизнь» («Разоренье»).]
(Из детских лет одного «пропащего»)
I
…Юродивый Парамон был самый настоящий крестьянский, мужицкий святой человек. Происходил он из мужиков, был женат; но, повинуясь гласу и видению, оставил дом, жену, двух детей и ушел спасать свою душу… Душу он спасал также русским крестьянским способом, то есть самым подлинным умерщвлением плоти, основанным на физическом мучении и даже самоистязании: на голове он носил чугунную, около полупуда весом, шапку, обшитую черным сукном, в руке таскал чугунную полуторапудовую палку, а на теле носил вериги. Вериги состояли из цепей, кольца которых были величиной и толщиной в обыкновенную баранку; цепи эти опоясывали его стан, крест-накрест пересекали грудь и спину; на спине, там, где цепи перекрещивались, была прицеплена к ним, лежащая на голом теле, чугунная доска, в квадратную четверть величиной, с вылитою на ней надписью: «аз язвы господа моего ношу на теле моем». И действительно, он носил на теле настоящие, подлинные и притом ужасные язвы. Вериги были закованы на нем наглухо, на веки веков, а он, надевший их в молодых летах, рос, кости его раздавались, и железо въедалось в его тело; ржавчина и пот разъедали кожу до степени настоящих язв, а в жару, например в бане, которую он «по грехам» очень и очень любил, раскаленное железо так пекло эти язвы, что из них лила самая настоящая кровь. Не довольствуясь этими мучениями, заставлявшими его поминутно, при самом малейшем движении, испытывать ощущения уколов шила или иглы, он еще любил жечь на огне, на свечке пальцы свои, ставить подошву на уголь, не говоря уже о том, что летом ноги его постоянно были изодраны острыми камнями мостовой, а зимой кожа на них лопалась до крови от морозов…
Он так глубоко верил в будущее блаженство, так глубоко был проникнут сознанием того, что выше этой «вечной славы» ничего нет ни в жизни человека, ни на земле, ни под землей, что всякий раз, когда его мучила боль от вериг или боль от лопнувшего на огне свечки пальца, он хотя и не в силах был удержать крупных каплей пота, выступавших в это время на его лице, но был истинно счастлив, и его обыкновенное, рябое, с веснушками, мужичье лицо и его обыкновенные, маленькие белесые мужичьи глаза делались истинно прекрасными, до того прекрасными, ангельскими, что все, какие бы то ни были при этом, черствые, сухие, охолоделые души, – все чувствовали, хоть на мгновение, пробуждение чего-то детски-радостного, чего-то легкого, светлого и бесконечного.
Проживи я еще не пятьдесят, а сто пятьдесят лет, я и тогда, кажется, не забуду этой фигуры; она припоминается мне всякий раз, когда жизнь, дав хороший урок, заставит задуматься хотя бы о том, отчего в тебе нет того-то и того-то, отчего ты не запасся тем-то и тем-то, и принудит искать причин этих недостатков в обстановке и условиях раннего детства… Корявый, необразованный, невежественный Парамон, с своей странной теорией спасения посредством физических страданий, этот простяк святой в такие минуты припоминается мне, как одно (боюсь сказать единственное) из самых светлых явлений, самых дорогих воспоминаний.
Оставшись рано круглым сиротой, я с шести лет жил у дяди, брата моего отца, человека семейного, служившего в одном из губернских присутственных мест… Часто я, будучи большим, негодовал на воспитание, на забитость, неразвитость этих воспитавших меня людей; но делаясь стариком и ознакомясь с жизнью больше, чем я был знаком с нею в двадцать лет, я уж не сержусь на них. Детство мое прошло в конце тридцатых и в начале сороковых годов, а эти года для «обыкновенной» русской толпы были самым глухим, самым мертвым временем. Все, что родилось и провело в эти годы свое детство, все это, как бы ни был ребенок даровит от природы, было близко к потере сознания человеческого достоинства, с детства переполнялось всеми сортами трусости, приучалось боязливо мыслить, чувствовать и вовсе отвыкало от аппетита как-нибудь поступать, как-нибудь действовать… Не шевелиться, хоть и мечтать; не показать виду, что думаешь; не показать виду, что не боишься, – показывать, напротив – что «боишься», трепещешь, – тогда как для этого и оснований-то никаких нет: – вот что выработали эти годы в русской толпе. Надо постоянно бояться – это корень жизненной правды; все остальное может быть, но может и не быть, да и не нужно всего этого остального, еще наживешь хлопот: – вот что носилось тогда в воздухе, угнетало толпу, отшибало у нее ум и охоту думать.
Семья, в которой я рос, была именно такая семья; семья угнетенная носившимся в воздухе молотом: «еще наживешь хлопот!» Вечное, беспрерывное беспокойство о «виновности» самого существования на свете пропитало все взаимные отношения, все общественные связи, все мысли, дни и ночи, месяцы и годы, начинаясь минутой пробуждения, переходя через весь день и не покидая ночью… Как будто кто-то предсказал всем членам этой семьи (а таких семей было много, – если не вся тогдашняя русская толпа), что в конце концов ей предстоит гибель, и как будто камень этого сознания лежал у всех на душе. С этим камнем молились богу, привозя в дом чудотворную икону, с этим камнем родили детей и хоронили их. С этим камнем шли на службу, принимали гостей, шли сами в гости. Уверенности, что человек имеет право жить, не было ни у кого: напротив – именно эта-то уверенность и была умерщвлена в толпе. Все простые, обыкновенные люди не жили – «мыкались» или просто «кормились», но не жили. Как только начинаю себя помнить, чувство какой-то виновности, какого-то тяжелого преступления уже тяготело надо мной. Так действовала на меня эта унылая, мертвая атмосфера, созданная людьми, искони потерявшими смысл и аппетит «жизни», что я еще семи или восьми лет уже чувствовал тот самый камень на сердце, какой чувствовали все мои родственники, все мои сверстники.
В церкви я был виноват перед всеми этими угодниками, образами, паникадилами. В школе я был виноват перед всеми, начиная со сторожа – куда! – с вешалки, на которой вешал свою шинель; на улице каждая собака (мне казалось так!) только и ждала моего появления, чтоб меня если не совсем съесть, то уж непременно укусить. Мальчишки, пускавшие змеи, казались мне отверженными богом, одержимыми злым духом, порождением дьявола – так казалась громадна их дерзость: как не бояться будочника, который только и смотрит, чтобы схватить тебя и утащить неизвестно куда!.. Словом, атмосфера, в которой я рос, была полна страхов, была полна впечатлениями неприятных, неприветливых лиц, неприятных, неприветливых отношений, угроз беспрестанных, беспрерывных, неведомо откуда и как, но во множестве являющихся огорчений.
Все, что я ни видел вокруг себя, все как бы отказалось от самого себя и только заботилось о том, чтобы не погибнуть, точно было ввержено в какую-то пропасть… «Пропадешь!» носилось надо всеми мне близкими; «пропадешь, если посмеешь чего-нибудь захотеть сам, если сам что-нибудь позволишь себе…» – «Хватай невесту-то, покуда можно… а то пропадешь!» И человек хватал урода, от которого спивался… «Хватай место… останешься без места, пропадешь!», и художник, талантливый человек, «хватал» место попа, почтальона – и спивался… Ни одной светлой точки не было на горизонте. «Пропадешь!» кричали небо и земля, воздух и вода, люди и звери… И все ежилось и бежало от беды в первую попавшуюся нору.
Под гнетом сознания необходимости пропасть, осенявшим колыбели моих сверстников и мою, мы и влачили существование изо дня в день многие годы. Холодно было в прожитом, а впереди чуялось еще холодней, еще неприветливей, потому что с каждым годом приближалась та минута, в которую предстояло наконец-таки окончательно пропасть.
И вдруг является Парамон…
II
Помню потрясающее впечатление, которое произвело на весь наш дом первое его появление. Он вошел в калитку сада, выходившую в глухой переулок. Первый заметил эту фигуру я и, под ужасным впечатлением его шапки, от тяжести надвигавшейся на глаза и задерживаемой только носом, бросился, не помня себя, в дом… Дело было летом, все двери стояли отворенными; я бежал, не останавливаясь, через двор, через сени, через все двери, какие только ни попадались мне на пути, и, должно быть, впопыхах пробормотал что-нибудь кому-нибудь о необыкновенном явлении, потому что, очнувшись и отдышавшись, я нашел весь дом пустым: все выбежали на двор.
Успокоившись, вышел и я… Кучер, кухарка, горничная, няньки, дети, солдат, стоявший постоем, мой дядя, тетка, гости, которые были у нас в это время, – все это в глубоком молчании и с замиранием сердца столпилось около ворот сада и смотрело на Парамона…
Он шел медленно по средней большой дорожке. Голова в тяжелой шапке свесилась к груди и качалась как бы в забытьи; каждый шаг босыми ногами задерживался тяжелой палкой, которую перестанавливать надо было с большими усилиями. Тяжело «тукала» она в землю, и этот короткий тупой звук больно отдавался в больном сердце каждого зрителя. Что-то необыкновенное, – не то погибель, не то милость, не то само будущее, – шло к нам, и мы могли только замирать и трепетать и все до одного были убеждены, что это «святой человек».
Оцепенение и страх продолжались недолго. Не доходя нескольких шагов до ворот сада и до толпы, Парамон остановился и вздохнул: все поняли, что он очень устал, и бросились тащить кто лавку, кто стул, и в это время страх исчез, заменившись благоговением. Скоро все разглядели вериги, разглядели шапку и палку, сразу поняли, что человек свят, велик, необыкновенен, и сразу почувствовали радость чего-то нового, незлого, светлого и высокого! Нечто совсем постороннее, чуждое нашему несчастному, холодному, боязливому влачению жизни, пришло к нам, осчастливило нас, оторвало наши мысли от земли, по которой мы ползали ползком, подняло нашу уныло согнувшуюся голову к небу и звездам, нежданно вошло в сердце, заставило его сильнее биться, заставило грудь вбирать больше воздуха.
Молча сидел Парамон на стуле и тяжело дышал. Мы все также молчали и жадно вбирали своими завядшими сердцами новое ощущение, ощущение чего-то постороннего земле и несомненно великого. Тяжело вздохнув и ежась от боли ран, Парамон, повидимому, с большим трудом снял тяжелую шапку и надел ее на кучера, который стоял к нему ближе всех. Шапка хватила кучеру до самой бороды, но он не посмел шевельнуться и стоял как столб; руки его дрожали. Парамон долго продержал его в таком положении, шепча какие-то слова. Надо сказать правду: плоха была фантазия у этого верного послушника «гласа» и «видения». Было у него выдумано или измышлено несколько фраз, две либо три – не больше, фраз, которые по всей вероятности должны бы были выражать какую-нибудь мысль, но, по безграмотству мужика-подвижника, не означали ничего, кроме чепухи. Не больше умения выказал он и в других приемах влияния на толпу. Другой, ловкий, умный и хитрый святоша и вериги бы сделал ременные, а не железные, и жил бы припеваючи, пуская в ход какие-нибудь уловки, но Парамон был простой человек, мужик, человек крайне недалекий, неграмотный и не выдумал ничего доходного и легкого. Вериги носил он настоящие, носил настоящие язвы и пальцы жег тоже настоящим манером, жег так, что кожа и ногти трескались на огне, да кроме того обещал еще загнать под кожу гвозди железные, и я уверен, что со временем он наверное сделал и это. Несмотря, однако, на отсутствие умения обморочить, а может быть, именно вследствие этого неумения, впечатление, произведенное им, его бормотаньем бессвязных слов, его шапкой, палкой, веригами, – было громадно: он был совсем посторонний нам, он не знал ничего нашего, не думал ни о чем, о чем думаем мы, шел по дороге в небо, тогда как мы ползли к какой-то темной «земной» яме: – вот были достоинства Парамона, и, раз оторвавшись от этого вечного ползанья, раз, благодаря ему, пустив в свое сердце что-то с неба, что-то светлое, широкое, великое, мы все до одного, из живших в семье, уже не могли расстаться с ним.
III
С первого же дня Парамон, его вериги, его язвы, его бессмысленные фразы сделались необходимы для всего дома; всякому непременно надо было слышать эти слова, необходимо было видеть эту шапку, эту палку, чтобы возобновлять в душе ощущение «постороннего» нашему жалкому, тяжкому, будничному влачению жизни. Мы, дети, были, конечно, счастливы больше всех и больше всех ожили от появления Парамона и его «посторонних» планов. Эти посторонние задачи и цели Парамона дали нам возможность убедиться, что люди, которые нас окружали, люди, среди которых мы росли, отцы, матери, родственники, – что эти люди могут радовать нас веселыми, иной раз даже одушевленными лицами, думать и говорить не об одном только горе и несчастии своего существования на белом свете. Мы неоднократно слышали после появления Парамона разговоры между нашими отцами и родственниками, не разговаривавшими никогда ни о чем, кроме бывших и будущих «неприятностей», грозящих и нам и соседям, грозящих сегодня, и завтра, и через час, и через минуту. Теперь между этими людьми начали происходить разговоры, касавшиеся совершенно посторонних предметов и решительно не имевшие ни малейшей связи с разговорами вышеупомянутого безнадежного свойства. Говорили, например, о боге, о том, что есть безбожники, о будущей жизни, о рае, аде, причем, на наше и всеобщее счастие, оказывалось, что великое множество народу, которого мы и наши отцы дрожали, боялись, как огня, неминуемо должно попасть в ад, несмотря на тройные оклады получаемого в сей жизни жалованья и каменные дома. Оказывались вообще из этих, посторонних нашей несчастной жизни, разговоров – вещи необыкновенные, являвшиеся как-то внезапно, вытекавшие сами собой, нежданно и негаданно. Иной раз, заговорив, например, о пути в рай, наши робкие, забитые, обезнадеженные отцы, помимо собственной воли, которой к тому же они решительно ни в чем, ни в речах, ни в поступках, ни даже в мыслях, никогда «не знали», – договаривались до такого простора, до такой широчайшей возможности дышать полной грудью, ходить распрямившись, что дух захватывало у бедных людей от необъятного, сильного ощущения радости жизни, вдруг неожиданно оказывавшейся совершенно возможной и сейчас, сию минуту всем доступной. А кто не знает, как быстро и как сильно передается детям самая ничтожная радость семьи? Три-четыре разговора, изменившие лица наших отцов из несчастных в счастливые, отдались в наших детских сердцах (уже засыхавших, как увидит читатель, уже объеденных безнадежностью и огорченных жизнью) безграничною радостью. Как Лазарь, жаждавший капли воды, наша заморенная мысль тотчас, в одно мгновение, пользуясь только этими тремя-четырьмя «посторонними» смерти и тоске выражениями лиц, вся отдалась счастию знать, что есть это постороннее, огромное, беспредельное, веселое и радостное. Это сделали два-три оживленных мыслью лица только – так мы были рады и так жаждали освежающей капли!