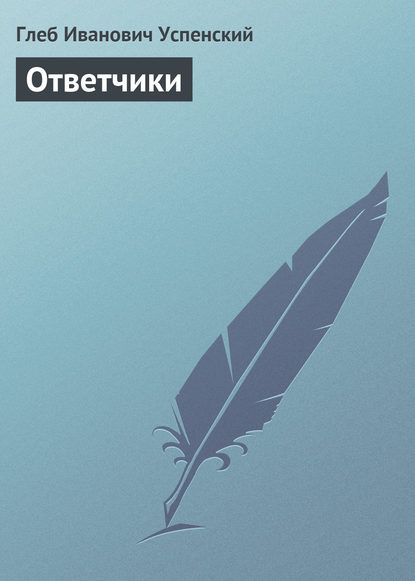По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ответчики
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ответчики
Глеб Иванович Успенский
Мельком #2
«…Поводом для написания статьи послужило уголовное дело некоей Скублинской и ее сообщников, слушавшееся в конце октября 1890 года в Варшавском окружном суде и привлекшее широкое общественное внимание. Скублинская жила тем, что принимала за вознаграждение «на воспитание» детей, приносимых ей матерями, и кроме того брала их из воспитательного дома. Младенцы выдерживали недолго: они умирали от голода и от отсутствия ухода. Количество детей, умерщвленных Скублинской, осталось неустановленным; во всяком случае оно составляло несколько десятков. Приговор суда носил чрезвычайно мягкий характер: Скублинская и ее компаньонка были приговорены к трем годам тюремного заключения, остальные сообщники осуждены на срок до шести месяцев…»
Глеб Иванович Успенский
Ответчики[1 - Эта заметка написана в самый разгар всеобщего гнева против «варшавских детоубийц». «Женщины Ироды», «Избиение младенцев» – иначе не говорилось в печати о Скублинской и ее зверских злодействах. В конце ноября 1890 г. в Варшаве окончился процесс Скублинской, и общественная совесть чистосердечно сказала об этом деле свое справедливое, даже покаянное слово: «Варшавский дневник», сообщая судебный отчет по делу Скублинской, между прочим замечает: «Скублинская все больше и больше располагает к снисхождению не только жалким видок, частыми слезами и, повидимому, искренностью в показаниях, но и впечатлением, вызванным всем ходом дела, – складывается убеждение, что она совсем не такой изверг, каким представила ее обществу печать, и даже не в такой степени преступна, как ее изображали».]
(Продолжение предыдущего)
1
…Те же самые своевольные, независимые крестьянские женщины обречены на неминуемую гибель, если только, по тем или иным причинам (о причинах будет сказано подробней), будут вынуждены оставить родной дом, деревню и искать хлеба на стороне и в труде по найму.
Ужасное дело о варшавских «детоубийствах» еще не подлежало суждению гласного суда, – но мы уверены, что суд, если и не оставит без наказания женщин, «кормившихся» около «брошенных» детей, то он, несомненно, выяснит те великие неправды современного строя жизни, в котором множество матерей не могут исполнять своих материнских обязанностей и множество детей обречены быть брошенными своими родными матерями.
Прежде всего, конечно, несметное множество крестьянских женщин, оторванных от своего хозяйства, и в большинстве самого цветущего возраста, поглощает всякий город, большой или малый, все равно. Каждый городской дом не может ни в каком случае обойтись без прислуги как мужской, так и женской. И если мы выделим из общего числа прислуги вообще только одних женщин, и притом таких, которые исполняют в доме лишь черную работу (не говорим о гувернантках, компаньонках и пр.), то увидим, что и этого рода тружениц семейный дом требует в весьма немалом количестве: кормилицы, няньки, горничные, кухарки, швеи, прачки, все это необходимые в каждом семействе радетели и пособники, без которых никоим образом не может обойтись ни один обывательский городской дом. И если это количество необходимых пособников помножить на сотни и тысячи таких же семейств, количество которых увеличивается по мере возрастания народонаселения, то получится поистине несметное множество одних только женщин, которых поедает чрево города и которые обречены на полнейшую невозможность хотя бы подобия независимого существования.
Неудивительно поэтому, что подкидыш есть в настоящее время непременная принадлежность «городских известий» всякой газеты, издающейся в таких городах, где г. Купон в большей или меньшей степени запустил свой «коготок»; не говоря о столицах, – Одесса, Ростов, Киев, Казань и все поволжские крупные торговые пункты почти ежедневно свидетельствуют в своих листках о подкинутых младенцах. Но в тех же листках, не в городских известиях, а на последней странице объявлений, целые столбцы также ежедневно свидетельствуют, какое огромное количество бездомовного народа (и опять-таки преимущественно женщин) ищет труда, работы, места, то есть вообще куска хлеба. Ежедневный подкидыш, большею частью в единственном числе, и ежедневная масса, десятки и сотни женщин, ищущих куска хлеба, эта параллель между размерами женской нужды и одним-двумя брошенными детьми ясно свидетельствует о том, что брошенный ребенок – не продукт распутства и разврата темной городской «массы», как это утверждают, между прочим, некоторые исследователи варшавских событий.
Подкидыш, то есть брошенный ребенок, есть прямое последствие скопления в городах огромного количества рабочего народа обоего пола, необходимого для обихода жизни городского обывателя, а следовательно, он, обыватель, не имеющий никакой возможности обойтись без покупного труда, и есть прямой и первый ответчик за брошенного ребенка брошенной на произвол судьбы женщины.
Мы подчеркиваем слово брошенный, потому что только в городе матери случайно рожденных детей могут быть поставлены в положение, не дающее им никакой возможности их растить и даже кормить хотя несколько дней; незаконные родятся в деревне, но участь их не такая, какова участь городского незаконного. «В одном из селений Лаишевского уезда[2 - «Казанский листок».], при производстве коренного передела земли, общество сильно занимал вопрос: наделить или не наделять землею незаконнорожденных? Большинство склонилось к тому, чтобы не наделять, во-первых, потому, что «кто его знает, чей он? – нашинского или чужого?» – а во-вторых, и, пожалуй, главным, образом потому, что надели их землей, так солдатки да вдовы столько натаскают ребят, что им, чего доброго, придется половину поля отрезать». В данном случае отказ в наделе землей объясняется только крайним малоземельем той местности, где находится указанное выше селение. Очевидно, что если бы у мирян было во владении достаточное количество земли, о незаконнорожденных и речи не было бы на миру, как не было ее и до сих пор. С другой стороны, какая разница в положении этих безмужних женщин, имеющих в своем распоряжении только «свои руки», и такой же женщины, трудами рук своих существующей не в деревне, а в городе. Оказывается, что будь у деревенской безмужней женщины какое-либо малейшее соприкосновение с землей, так она безбоязненно может ответствовать сама за себя; незаконные, которым отказывается в земле, не брошены деревенскими матерями, а выращены, и только малоземелье не дает их детям полного равенства в положении со всяким мирянином того сельского общества, где он родился.
Даже из одного этого примера – возможности для крестьянской женщины, будучи безмужней, не продавать своих рук из-за хлеба – городской нетруждающийся обыватель должен убедиться, что женщина решается идти к нему в услужение в том только случае, когда для нее утрачены все пути к независимому существованию, и что, следовательно, он благоденствует только усилиями тех человеческих существ, которые обречены необходимостью отказаться навсегда даже от тени мысли о возможности жить без кабалы.
2
Чтобы слова наши не были бездоказательными, приведем два-три самых заурядных жизненных факта, непосредственно касающихся благосостояния городского обывателя. «31-го августа[3 - «Волжск<ий> вестн<ик>«, 1889 г., № 215.] в камере мирового судьи 1-го участка слушалось дело по обвинению от полиции крестьянской девицы Прасковьи Ермолаевой Лазаревой в подкинутии младенца. Обвиняемая признала себя виновною и объяснила следующее. Отдав на воспитание свое новорожденное дитя, она поступила в кормилицы. Несмотря на то, что обвиняемая ежедневно выдавала приемной матери своего дитяти по 15 к. и снабжала молоком, последняя требовала 5 р. разом, которых она еще не зажила. В 12 ч. ночи ей принесли назад ее ребенка. Вероятно, вследствие того, что обвиняемая не могла удовлетворить двух младенцев, оба кричали. Хозяевам, конечно, это было неприятно. Не имея ничего в перспективе, кроме заработка в качестве кормилицы, она поставлена была в необходимость расстаться с своим родным дитятею. Полюбовный муж ее, будучи рассержен тем, что его не допустили к обвиняемой, расследовал все это дело и заявил в часть. В настоящее время младенец у нее на руках, а она сама живет вместе с вероломным возлюбленным в качестве прислуги в доме у его отца. Рассмотрев дело, судья приговорил Лазареву к 4-дневному аресту при земском арестном доме».
Если бы обожатель не рассердился и не был лично обижен полицией, то дело о подкидыше никогда бы не выяснилось так, как оно выяснилось на суде. Обожатель не сердится и ничего к облегчению свой сожительницы не предпринимает, зная, что ребенок его отдан старухе и что его сожительница принуждена безвыходным положением идти в кормилицы, кормить чужого ребенка. Хозяева, не уплатив ни копейки женщине, покинувшей для их благополучия собственного ее ребенка, однакоже, не задумываются высказать ей свое неудовольствие, что она не сумела отделаться от своего ребенка, и нимало не протестуют против ее отчаянного поступка.
Вот при каких условиях получает обыватель кормилицу, прачку, швею, обшивающую все его семейство. И швея, так же, как и кормилица его детей, жертвует для него всеми своими правами на независимое существование. Фактические доказательства сказанного заимствуются нами из венской корреспонденции, касающейся того же вопроса, о котором идет речь, так как положение швеи московской, казанской, петербургской и пр. совершенно одно и то же, что и положение швеи «заграничной». «Вот бюджет венской белошвейки, – пишет корреспондент «Русск<их> вед<омостей>«, – из числа «обеспеченных», то есть работающей на магазин и поэтому не имеющей надобности искать работу. Магазины белья платят своим работницам за изготовление 10 рубах от 1 гульд<ена> до 1 гульд<ена> 50 кр<ейцеров>. Так как умелая белошвейка в состоянии изготовить 10 рубах в 2 дня, работая 12 ч. в день, то заработок ее в день составляет 75–50 крейцеров; расходы же ее, считая только самое необходимое для поддержания жизни, следующие: квартира в день – 17 кр. (5 гульд. в месяц); литр молока для приготовления кофе, заменяющего завтрак, обед и ужин, стоит 12 кр.; кофе, цикорий и сахар – 10 кр., хлеб – 6 кр. и, наконец, керосин – 5 кр. Дневной расход, как видим, составляет уже 50 кр. Но в этом бюджете нет места ни расходам на платье и обувь, ни расходам на детей, если они живут при матери-работнице. Очевидно, что своим трудом белошвейка (как и рукодельница) не может прожить. Ей приходится искать помощи благотворителей, а не нашедши ее, выбирать между жизнью впроголодь и… проституцией».
Что же касается последнего рода гибели женщин, то городской обыватель вполне признает необходимость этой оформленной печатными правилами погибели женщин и как должное вносит в свой бюджет все городские расходы по части «гигиены».
3
Но расходов по части сохранения жизни подкидышей, в появлении которых в подворотнях, на тротуарах, на церковных папертях – он, горожанин, член городского общества[4 - В № 213-м «Волжского вестника» 1889 г. помещена заметка: «Один из сотни подкидышей», вопиющая о грубом равнодушии общества к этим несчастным человеческим существам. Одно уж заглавие заметки «Один из сотни» свидетельствует о количестве этих брошенных детей. «Здесь трудно обвинять мать ребенка, – говорит автор заметки, – бог знает, какие тяжелые условия заставили ее бросить свое детище? Может быть, стыд, может быть, страх перед людьми, нищета – были причиной, побудившей несчастную забыть чувства матери?.. Теперь все эти подкидыши поступают на воспитание в земское сиротское отделение, но поступают туда далеко не все: половина их мрет под заборами, пока будут замечены прохожим». О тяжких условиях мы имеем уже понятие из разбирательства у мирового судьи, приведенного выше.], есть несомненный виновник, – об этом расходе ни в одном городском бюджете нет пока и помина. За исключением земств, добровольно возлагающих на свои плечи бремя попечения о призрении подкидышей, то есть исполняющих обязанности, всею полностью лежащие на городском обывателе, почти во всех многонаселенных, оживленных г. Купоном городах попечение о брошенных детях продолжает быть делом частной благотворительности, делом частной инициативы человеколюбивых людей.
В Варшаве воспитательный дом основан благодаря иностранцу аббату Бодуэну; в Одессе дело призрения подкидышей также, повидимому, лежит главным образом на плечах частных благотворителей[5 - В Одессе в двух приютах для подкидышей, «Павловском» и «Обществе призрения младенцев и родительниц», за двадцать пять лет принято 4440 подкидышей, то есть примерно до 150–160 младенцев в год; неизвестно, однакоже, в какой степени увеличивалось количество подкинутых младенцев по мере оживления промышленности и коммерции и сколько найдено людьми и частью собаками уже мертвых младенцев? Из 4440 в одних только двух приютах Одессы умерло 2872 младенца.]. И нигде во всех этих густонаселенных городах (где одних кормилиц, то есть матерей, вынужденных бросить собственных детей, требуются целые десятки тысяч), управы не принимают ни малейшего участия в увеличении средств благотворительных учреждений, средств, возрастающих в своих размерах по мере увеличения народонаселения и пропорционально этому увеличивающегося количества брошенных детей.
«В 1876 г. в варшавском воспитательном доме «Младенца Иисуса» было принято 3607 детей; в 1877 – их поступило 3639; в 1879 г., после введения новых правил, принято лишь 1213, а в 1880 г. – 1172. Очевидно, что непринятые ежегодно полторы тысячи детей поступили, с 1879 года, на воспитание Скублинских, которые и не замедлили отправить их на тот свет». Последняя фраза г. корреспондента нам кажется написанной единственно из суетного желания не отставать в понимании варшавских событий в смысле первенствующего значения в них известных «зверообразных» личностей. Это тем более несправедливо, что из других корреспонденций того же автора мы узнаем, что Скублинские до такой степени изнуренные нуждою существа, что при полицейском осмотре из всех пяти злодеек только на одной была рубашка, а все прочие носили свои лохмотья на голом теле! Еще более несправедливое мнение о Скублинских заключается в обвинении их в умысле морить детей голодом[6 - В воспитательных домах Петербурга и Москвы в течение 125 лет умерло до 21-летнего возраста из 1 293 917 принятых подкидышей – 1 188 646, то есть 88 %. Расход годовой 2 1/2 милл. Каждый ребенок обходится в год 690 руб. («Нов<ое> вр<емя>«, № 5030).]: «на семь подкидышей Скублинская покупала всего-навсего полбутылки молока». Но варшавский приют отказал не семи, а (в течение десяти лет) пятнадцати тысячам младенцев даже и в единой капле молока, оправдывая свой поступок недостатком средств! Действительно, средств у приюта маловато. «Любовь к ближнему» как бы закаменела в сердцах его руководителей на тех тридцати тысячах рублей ежегодных расходов, которые в той же неизменной цифре тратились приютом с первых дней его открытия и до последнего дня настоящего года. Этот недостаток средств (а какие средства у Скублинской?) несомненно свидетельствует именно об окаменении человеколюбивого чувства, потому что если бы в нем не замерла идея милосердия, положенная в основание учреждения, он бы не мог не возвестить обществу о необходимой помощи.
Не менее бесчувственное отношение видим мы в полнейшем безучастии общества к явной, очевидной для каждого обывателя, гибели целых тысяч брошенных детей, нарожденных бедным, пришлым из-за куска хлеба, народом. В течение десяти лет в глазах Варшавы один за другим возникали процессы о «фабриках ангелов», но город довольствовался решениями суда, взыскивая со Скублинских по 50 руб. штрафа, и ни малейшим образом не ощущал на своей совести обязательной для него, неминуемой, неизбежной повинности.
4
Недостаток средств начинают испытывать также и земства, добровольно принявшие на свои плечи бремя городских обязанностей. Несколько лет тому назад губернское земство выстроило в гор. Самаре при земской больнице приют для подкидышей и устроило в воротах больницы ясли, «куда безбоязненно могли бы опускать младенцев, составляющих по той или иной причине тягость для их родителей». Затем у земства явилась мысль: «что делать с приемышами, когда они подрастут?» – вследствие чего управе было поручено выработать доклад о дальнейшей судьбе питомцев приюта. На следующий год управа доложила очередному собранию, что, по ее мнению, «прежде чем придет для губернского собрания время забот о дальнейшей судьбе подкидываемых детей, ему предстоит решить неотложный вопрос о том, что делать с той массой детей, которую создал и вызвал практикуемый ныне порядок». Докладчики заявляли, что если останутся «ясли» и ничем не стесняемое подкидывание в них младенцев, то лет через пять будут подбрасывать по нескольку тысяч детей, и на воспитание их, быть может, нехватит всей сметы губернского земства; если же будет установлен открытый прием младенцев, то «с уверенностью можно сказать, что число подкидываемых сразу уменьшится и будет выражением действительной нужды, а не корысти и злоупотреблений». Несмотря на возгласы и протесты лже-филантропов (?), земское собрание 18-го декабря 1888 г. постановило: «ясли при приюте закрыть»[7 - «Русск<ие> вед<омости>«, 1889 г., № 21.]. A вслед за тем, прибавим от себя, в «Русск<их> ведомост<ях>«появилась корреспонденция из Самары, в которой сказано, что «злоупотребления» продолжаются, несмотря на закрытие яслей, и подкидышей стали подбрасывать прямо на лестницу земской управы, что и доказывает неосновательность мнения, высказанного в сообщении из Самары, будто бы количество подкидышей возрастает именно вследствие закрытого приема подкидышей. Варшава неопровержимо доказала неосновательность этого предположения. Но что совершенно справедливо в сообщении самарского корреспондента, так это именно то, что действительно у самарского, да и у всякого, земства нехватит и всего земского бюджета, если только оно, земство, будет брать на свои плеча ответственность за грехи городских обывателей.
Самара – город богатейший, с каждым днем расширяющий пределы коммерческих операций, и, следовательно, обязанный отвечать за участь случайно рожденных в среде чернорабочего народа, который поглощается Самарою десятками тысяч и который обогащает ее обывателей миллионами. Средств у городского обывателя должно быть полным-полно, и расплатиться ему за собственные свои грехи ничего не стоит, если только он (как и вообще все городские управления) не будет извлекать средств из нищенского заработка того же рабочего люда, как это делается теперь. Та же Самара не только создает «огромные» театры и величественные здания, стоящие многих сотен тысяч, но без малейшего вреда для своего сундука, и даже прямо без всякого расчета, может просто-таки «швырять» деньги, как говорится, «на ветер» и притом опять-таки тысячами[8 - За что, например, самарская дума заплатила архитектору г. Жиберу около трех тысяч рублей и зачем собственно вызвала его из Петербурга? По словам одного из самарских корреспондентов, дума вызвала г. Жибера, во-первых, «для выполнения деталей по внешней отделке строящегося собора и, во-вторых, для увенчания здания куполами». Эти сведения первого корреспондента опровергает второй: дума, – говорит он, – в заседании 2-го апреля 1885 года постановила обратиться к г. Жиберу не за разработкой деталей и не для покрытия здания куполами, а с тем, чтобы он приехал освидетельствовать появившиеся трещины в недостроенном еще соборе. Первый корреспондент прибавляет к двум опровергнутым уже сведениям еще и третье: «Жибер одобрил постройку купола, получил за осмотр 3000 р.» Но и это третье сведение первого корреспондента также оказывается опровергнутым вторым корреспондентом: г. Жибер не мог одобрить постройку купола, так как в бытность его в Самаре в 1885 постройка была доведена до барабанного кольца и куполов еще не существовало. Г. Жибер получил не 3000 р., а 2000 р. Что же касается трещины, о которой сообщает первый корреспондент, то второй корреспондент вовсе не протестует против этого сообщения и говорит о трещине так: «В настоящее время есть одна значительная трещина, видимая снаружи, появившаяся еще в 1882 г. вследствие неравномерной осадки, но не имеющая никакого значения». И вследствие того, что видимая снаружи трещина не имеет никакого значения, второй корреспондент опять опровергает первого, утверждая, что за видимую трещину Жибер во второй приезд получил «не 3000 р., как утверждает первый, а всего 600 руб.». Теперь пусть сам читатель решит, за что собственно получил 2 тысячи 600 рублей архитектор Жибер, и вообще, во имя каких существенных надобностей выбросила на ветер 2 600 рублей касса самарского городского управления?].
В прямое подтверждение невозможности для земства отвечать за чужие грехи может служить ужаснейшее положение земского приюта для подкидышей в Симферополе, о котором сообщает самые мрачные сведения корреспондент «Моск<овских> вед<омостей>«. Дети мрут массами как в приюте, так и в деревнях, чего таврическое земство и не утаивает. Но стоит только представить себе, что такое означает Таврическая губерния в смысле потребления для хозяйственных надобностей главным образом опять-таки молодого женского поколения, чтобы знать, кто именно настоящий ответчик за брошенных детей. Одно овцеводство, стрижка и мойка шерсти в хозяйствах, имеющих стада овец в десятки и сотни тысяч, поглощает труд сотни и тысячи женских рабочих рук. Корреспондент и само земство объясняют смертность подкидышей невозможностью иметь кормилиц. Но ведь кормилицы-то и есть те работницы, которых из-за куска хлеба поглощают крупнейшие хозяйства южнорусского края. Стоит побыть в июньской ярмарке в Каховке, близ Херсона, в этом центральном пункте покупки и продажи рабочих рук, чтобы видеть, какое количество женской молодежи, нанимаемой на полевые работы, на табачные плантации, на хозяйства, практикующие овцеводство, поглощается Крымом, Юго-западным краем и Новороссийским краем, и чтобы убедиться, что ничего подобного не знали их родные матери, будучи крепостными и подневольными.
5
Из всего, что было сказано, кажется, уже есть некоторая возможность сделать более или менее определенные заключения: каждый ребенок, законно или незаконнорожденный, все равно, раз он брошен, покинут на произвол судьбы его родною матерью, несомненно свидетельствует о полнейшей невозможности для нее исполнить должным образом свои материнские обязанности.
Причины такого безвыходного положения женщин, в большинстве принадлежащих к крестьянской среде, таятся, прежде всего, в многосложном расстройстве трудового строя народной жизни. Не касаясь всей многосложности этого расстройства (именно потому, что оно действительно многосложно), для нас достаточно будет указать, во-первых, на отхожие промыслы (следствие невозможности существовать земледельческим трудом) и, во-вторых, на воинскую повинность. То и другое отнимает от деревни массы мужской молодежи и преграждает, таким образом, равной по количеству массе молодежи женской возможность существовать собственным своим хозяйством, вследствие чего отхожие промыслы становятся необходимостью также и для женской молодежи.
Вот из этого-то многочисленного количества крестьянских женщин, не имеющих возможности существовать своим хозяйством, прежде всего получают великое множество всякого рода женской прислуги города, городские обыватели, и, следовательно, они же должны быть и первыми ответчиками за последствия случайных сожительств трудящихся для блага обывателей безмужних женщин.
За городами следуют, как потребители женского труда, так и ответчики за последствия случайных сожительств, фабрики и заводы[9 - Вот случайно попавшее на глаза известие, когда писалась эта заметка. «Орехово-Зуево. 1-го марта. Сюда стали стекаться массы рабочего народа… Наполовину женщины, требующиеся на пунцовых фабриках по уборке, расстилке и сушке тканей. Фабриканты не спешат наймом, ссылаясь на прошлогодний запас товаров». «Русск<ие> вед<омости>«, № 61.] всякого рода, и в особенности фабрики и заводы, специально эксплуатирующие женский труд, как эксплуатируют, например, табачные фабрики[10 - В одном Ростове-на-Дону на двух фабриках насчитывается более 4 т<ысяч> девушек.].
За фабриками и заводами следуют, как потребители и ответчики, вообще все те предприятия, промышленные и хозяйственные, которые так или иначе пользуются трудом безмужних и бесхозяйственных женщин.
Что же касается до организации дела сохранения жизни и дальнейшей участи подкидышей, то мы не имеем даже и возможности касаться этого многосложного дела в настоящей заметке, имевшей целью только определить: кто именно виновник и ответчик за погибель такого множества брошенных детей и на ком лежит обязанность давать средства, «платить деньги» и образовать общий сиротский для всего государства капитал на спасение и воспитание «брошенных детей».
Примечания
Впервые опубликовано в газете «Русские ведомости», 1890, № 63, 6 марта, под заголовком «О царе Ироде» (по поводу варшавских детоубийств)». Затем включено в третий том сочинений Успенского.
Поводом для написания статьи послужило уголовное дело некоей Скублинской и ее сообщников, слушавшееся в конце октября 1890 года в Варшавском окружном суде («Варшавский дневник», 1890, 24 октября – 1 ноября, №№ 231–238) и привлекшее широкое общественное внимание. Скублинская жила тем, что принимала за вознаграждение «на воспитание» детей, приносимых ей матерями, и кроме того брала их из воспитательного дома. Младенцы выдерживали недолго: они умирали от голода и от отсутствия ухода. Количество детей, умерщвленных Скублинской, осталось неустановленным; во всяком случае оно составляло несколько десятков. Приговор суда носил чрезвычайно мягкий характер: Скублинская и ее компаньонка были приговорены к трем годам тюремного заключения, остальные сообщники осуждены на срок до шести месяцев.
Подготовляя статью для собрания сочинений, Успенский исключил ее первый раздел, в котором говорилось об изображениях сюжета «избиение младенцев при царе Ироде», где фигурируют воины, убивающие детей, и нет «виновника – царя Ирода, по злодейскому замыслу которого и совершается все то, что изображено на картине». Упоминание о деле Скублинской было перенесено в примечание, а вся статья поставлена в связь со статьей «Крестьянские женщины» как ее продолжение, посвященное теме бедственного положения одиноких матерей, вынужденных «подкидывать» своих детей. Виновником трагической судьбы трудящейся женщины, работающей по найму, Успенский считает «город», находящийся во власти «господина Купона», то есть капиталистический режим, о чем достаточно ясно говорится в статье.
notes
Сноски
1
Эта заметка написана в самый разгар всеобщего гнева против «варшавских детоубийц». «Женщины Ироды», «Избиение младенцев» – иначе не говорилось в печати о Скублинской и ее зверских злодействах. В конце ноября 1890 г. в Варшаве окончился процесс Скублинской, и общественная совесть чистосердечно сказала об этом деле свое справедливое, даже покаянное слово: «Варшавский дневник», сообщая судебный отчет по делу Скублинской, между прочим замечает: «Скублинская все больше и больше располагает к снисхождению не только жалким видок, частыми слезами и, повидимому, искренностью в показаниях, но и впечатлением, вызванным всем ходом дела, – складывается убеждение, что она совсем не такой изверг, каким представила ее обществу печать, и даже не в такой степени преступна, как ее изображали».
2
«Казанский листок».
3
«Волжск<ий> вестн<ик>«, 1889 г., № 215.
4
В № 213-м «Волжского вестника» 1889 г. помещена заметка: «Один из сотни подкидышей», вопиющая о грубом равнодушии общества к этим несчастным человеческим существам. Одно уж заглавие заметки «Один из сотни» свидетельствует о количестве этих брошенных детей. «Здесь трудно обвинять мать ребенка, – говорит автор заметки, – бог знает, какие тяжелые условия заставили ее бросить свое детище? Может быть, стыд, может быть, страх перед людьми, нищета – были причиной, побудившей несчастную забыть чувства матери?.. Теперь все эти подкидыши поступают на воспитание в земское сиротское отделение, но поступают туда далеко не все: половина их мрет под заборами, пока будут замечены прохожим». О тяжких условиях мы имеем уже понятие из разбирательства у мирового судьи, приведенного выше.
5
Глеб Иванович Успенский
Мельком #2
«…Поводом для написания статьи послужило уголовное дело некоей Скублинской и ее сообщников, слушавшееся в конце октября 1890 года в Варшавском окружном суде и привлекшее широкое общественное внимание. Скублинская жила тем, что принимала за вознаграждение «на воспитание» детей, приносимых ей матерями, и кроме того брала их из воспитательного дома. Младенцы выдерживали недолго: они умирали от голода и от отсутствия ухода. Количество детей, умерщвленных Скублинской, осталось неустановленным; во всяком случае оно составляло несколько десятков. Приговор суда носил чрезвычайно мягкий характер: Скублинская и ее компаньонка были приговорены к трем годам тюремного заключения, остальные сообщники осуждены на срок до шести месяцев…»
Глеб Иванович Успенский
Ответчики[1 - Эта заметка написана в самый разгар всеобщего гнева против «варшавских детоубийц». «Женщины Ироды», «Избиение младенцев» – иначе не говорилось в печати о Скублинской и ее зверских злодействах. В конце ноября 1890 г. в Варшаве окончился процесс Скублинской, и общественная совесть чистосердечно сказала об этом деле свое справедливое, даже покаянное слово: «Варшавский дневник», сообщая судебный отчет по делу Скублинской, между прочим замечает: «Скублинская все больше и больше располагает к снисхождению не только жалким видок, частыми слезами и, повидимому, искренностью в показаниях, но и впечатлением, вызванным всем ходом дела, – складывается убеждение, что она совсем не такой изверг, каким представила ее обществу печать, и даже не в такой степени преступна, как ее изображали».]
(Продолжение предыдущего)
1
…Те же самые своевольные, независимые крестьянские женщины обречены на неминуемую гибель, если только, по тем или иным причинам (о причинах будет сказано подробней), будут вынуждены оставить родной дом, деревню и искать хлеба на стороне и в труде по найму.
Ужасное дело о варшавских «детоубийствах» еще не подлежало суждению гласного суда, – но мы уверены, что суд, если и не оставит без наказания женщин, «кормившихся» около «брошенных» детей, то он, несомненно, выяснит те великие неправды современного строя жизни, в котором множество матерей не могут исполнять своих материнских обязанностей и множество детей обречены быть брошенными своими родными матерями.
Прежде всего, конечно, несметное множество крестьянских женщин, оторванных от своего хозяйства, и в большинстве самого цветущего возраста, поглощает всякий город, большой или малый, все равно. Каждый городской дом не может ни в каком случае обойтись без прислуги как мужской, так и женской. И если мы выделим из общего числа прислуги вообще только одних женщин, и притом таких, которые исполняют в доме лишь черную работу (не говорим о гувернантках, компаньонках и пр.), то увидим, что и этого рода тружениц семейный дом требует в весьма немалом количестве: кормилицы, няньки, горничные, кухарки, швеи, прачки, все это необходимые в каждом семействе радетели и пособники, без которых никоим образом не может обойтись ни один обывательский городской дом. И если это количество необходимых пособников помножить на сотни и тысячи таких же семейств, количество которых увеличивается по мере возрастания народонаселения, то получится поистине несметное множество одних только женщин, которых поедает чрево города и которые обречены на полнейшую невозможность хотя бы подобия независимого существования.
Неудивительно поэтому, что подкидыш есть в настоящее время непременная принадлежность «городских известий» всякой газеты, издающейся в таких городах, где г. Купон в большей или меньшей степени запустил свой «коготок»; не говоря о столицах, – Одесса, Ростов, Киев, Казань и все поволжские крупные торговые пункты почти ежедневно свидетельствуют в своих листках о подкинутых младенцах. Но в тех же листках, не в городских известиях, а на последней странице объявлений, целые столбцы также ежедневно свидетельствуют, какое огромное количество бездомовного народа (и опять-таки преимущественно женщин) ищет труда, работы, места, то есть вообще куска хлеба. Ежедневный подкидыш, большею частью в единственном числе, и ежедневная масса, десятки и сотни женщин, ищущих куска хлеба, эта параллель между размерами женской нужды и одним-двумя брошенными детьми ясно свидетельствует о том, что брошенный ребенок – не продукт распутства и разврата темной городской «массы», как это утверждают, между прочим, некоторые исследователи варшавских событий.
Подкидыш, то есть брошенный ребенок, есть прямое последствие скопления в городах огромного количества рабочего народа обоего пола, необходимого для обихода жизни городского обывателя, а следовательно, он, обыватель, не имеющий никакой возможности обойтись без покупного труда, и есть прямой и первый ответчик за брошенного ребенка брошенной на произвол судьбы женщины.
Мы подчеркиваем слово брошенный, потому что только в городе матери случайно рожденных детей могут быть поставлены в положение, не дающее им никакой возможности их растить и даже кормить хотя несколько дней; незаконные родятся в деревне, но участь их не такая, какова участь городского незаконного. «В одном из селений Лаишевского уезда[2 - «Казанский листок».], при производстве коренного передела земли, общество сильно занимал вопрос: наделить или не наделять землею незаконнорожденных? Большинство склонилось к тому, чтобы не наделять, во-первых, потому, что «кто его знает, чей он? – нашинского или чужого?» – а во-вторых, и, пожалуй, главным, образом потому, что надели их землей, так солдатки да вдовы столько натаскают ребят, что им, чего доброго, придется половину поля отрезать». В данном случае отказ в наделе землей объясняется только крайним малоземельем той местности, где находится указанное выше селение. Очевидно, что если бы у мирян было во владении достаточное количество земли, о незаконнорожденных и речи не было бы на миру, как не было ее и до сих пор. С другой стороны, какая разница в положении этих безмужних женщин, имеющих в своем распоряжении только «свои руки», и такой же женщины, трудами рук своих существующей не в деревне, а в городе. Оказывается, что будь у деревенской безмужней женщины какое-либо малейшее соприкосновение с землей, так она безбоязненно может ответствовать сама за себя; незаконные, которым отказывается в земле, не брошены деревенскими матерями, а выращены, и только малоземелье не дает их детям полного равенства в положении со всяким мирянином того сельского общества, где он родился.
Даже из одного этого примера – возможности для крестьянской женщины, будучи безмужней, не продавать своих рук из-за хлеба – городской нетруждающийся обыватель должен убедиться, что женщина решается идти к нему в услужение в том только случае, когда для нее утрачены все пути к независимому существованию, и что, следовательно, он благоденствует только усилиями тех человеческих существ, которые обречены необходимостью отказаться навсегда даже от тени мысли о возможности жить без кабалы.
2
Чтобы слова наши не были бездоказательными, приведем два-три самых заурядных жизненных факта, непосредственно касающихся благосостояния городского обывателя. «31-го августа[3 - «Волжск<ий> вестн<ик>«, 1889 г., № 215.] в камере мирового судьи 1-го участка слушалось дело по обвинению от полиции крестьянской девицы Прасковьи Ермолаевой Лазаревой в подкинутии младенца. Обвиняемая признала себя виновною и объяснила следующее. Отдав на воспитание свое новорожденное дитя, она поступила в кормилицы. Несмотря на то, что обвиняемая ежедневно выдавала приемной матери своего дитяти по 15 к. и снабжала молоком, последняя требовала 5 р. разом, которых она еще не зажила. В 12 ч. ночи ей принесли назад ее ребенка. Вероятно, вследствие того, что обвиняемая не могла удовлетворить двух младенцев, оба кричали. Хозяевам, конечно, это было неприятно. Не имея ничего в перспективе, кроме заработка в качестве кормилицы, она поставлена была в необходимость расстаться с своим родным дитятею. Полюбовный муж ее, будучи рассержен тем, что его не допустили к обвиняемой, расследовал все это дело и заявил в часть. В настоящее время младенец у нее на руках, а она сама живет вместе с вероломным возлюбленным в качестве прислуги в доме у его отца. Рассмотрев дело, судья приговорил Лазареву к 4-дневному аресту при земском арестном доме».
Если бы обожатель не рассердился и не был лично обижен полицией, то дело о подкидыше никогда бы не выяснилось так, как оно выяснилось на суде. Обожатель не сердится и ничего к облегчению свой сожительницы не предпринимает, зная, что ребенок его отдан старухе и что его сожительница принуждена безвыходным положением идти в кормилицы, кормить чужого ребенка. Хозяева, не уплатив ни копейки женщине, покинувшей для их благополучия собственного ее ребенка, однакоже, не задумываются высказать ей свое неудовольствие, что она не сумела отделаться от своего ребенка, и нимало не протестуют против ее отчаянного поступка.
Вот при каких условиях получает обыватель кормилицу, прачку, швею, обшивающую все его семейство. И швея, так же, как и кормилица его детей, жертвует для него всеми своими правами на независимое существование. Фактические доказательства сказанного заимствуются нами из венской корреспонденции, касающейся того же вопроса, о котором идет речь, так как положение швеи московской, казанской, петербургской и пр. совершенно одно и то же, что и положение швеи «заграничной». «Вот бюджет венской белошвейки, – пишет корреспондент «Русск<их> вед<омостей>«, – из числа «обеспеченных», то есть работающей на магазин и поэтому не имеющей надобности искать работу. Магазины белья платят своим работницам за изготовление 10 рубах от 1 гульд<ена> до 1 гульд<ена> 50 кр<ейцеров>. Так как умелая белошвейка в состоянии изготовить 10 рубах в 2 дня, работая 12 ч. в день, то заработок ее в день составляет 75–50 крейцеров; расходы же ее, считая только самое необходимое для поддержания жизни, следующие: квартира в день – 17 кр. (5 гульд. в месяц); литр молока для приготовления кофе, заменяющего завтрак, обед и ужин, стоит 12 кр.; кофе, цикорий и сахар – 10 кр., хлеб – 6 кр. и, наконец, керосин – 5 кр. Дневной расход, как видим, составляет уже 50 кр. Но в этом бюджете нет места ни расходам на платье и обувь, ни расходам на детей, если они живут при матери-работнице. Очевидно, что своим трудом белошвейка (как и рукодельница) не может прожить. Ей приходится искать помощи благотворителей, а не нашедши ее, выбирать между жизнью впроголодь и… проституцией».
Что же касается последнего рода гибели женщин, то городской обыватель вполне признает необходимость этой оформленной печатными правилами погибели женщин и как должное вносит в свой бюджет все городские расходы по части «гигиены».
3
Но расходов по части сохранения жизни подкидышей, в появлении которых в подворотнях, на тротуарах, на церковных папертях – он, горожанин, член городского общества[4 - В № 213-м «Волжского вестника» 1889 г. помещена заметка: «Один из сотни подкидышей», вопиющая о грубом равнодушии общества к этим несчастным человеческим существам. Одно уж заглавие заметки «Один из сотни» свидетельствует о количестве этих брошенных детей. «Здесь трудно обвинять мать ребенка, – говорит автор заметки, – бог знает, какие тяжелые условия заставили ее бросить свое детище? Может быть, стыд, может быть, страх перед людьми, нищета – были причиной, побудившей несчастную забыть чувства матери?.. Теперь все эти подкидыши поступают на воспитание в земское сиротское отделение, но поступают туда далеко не все: половина их мрет под заборами, пока будут замечены прохожим». О тяжких условиях мы имеем уже понятие из разбирательства у мирового судьи, приведенного выше.], есть несомненный виновник, – об этом расходе ни в одном городском бюджете нет пока и помина. За исключением земств, добровольно возлагающих на свои плечи бремя попечения о призрении подкидышей, то есть исполняющих обязанности, всею полностью лежащие на городском обывателе, почти во всех многонаселенных, оживленных г. Купоном городах попечение о брошенных детях продолжает быть делом частной благотворительности, делом частной инициативы человеколюбивых людей.
В Варшаве воспитательный дом основан благодаря иностранцу аббату Бодуэну; в Одессе дело призрения подкидышей также, повидимому, лежит главным образом на плечах частных благотворителей[5 - В Одессе в двух приютах для подкидышей, «Павловском» и «Обществе призрения младенцев и родительниц», за двадцать пять лет принято 4440 подкидышей, то есть примерно до 150–160 младенцев в год; неизвестно, однакоже, в какой степени увеличивалось количество подкинутых младенцев по мере оживления промышленности и коммерции и сколько найдено людьми и частью собаками уже мертвых младенцев? Из 4440 в одних только двух приютах Одессы умерло 2872 младенца.]. И нигде во всех этих густонаселенных городах (где одних кормилиц, то есть матерей, вынужденных бросить собственных детей, требуются целые десятки тысяч), управы не принимают ни малейшего участия в увеличении средств благотворительных учреждений, средств, возрастающих в своих размерах по мере увеличения народонаселения и пропорционально этому увеличивающегося количества брошенных детей.
«В 1876 г. в варшавском воспитательном доме «Младенца Иисуса» было принято 3607 детей; в 1877 – их поступило 3639; в 1879 г., после введения новых правил, принято лишь 1213, а в 1880 г. – 1172. Очевидно, что непринятые ежегодно полторы тысячи детей поступили, с 1879 года, на воспитание Скублинских, которые и не замедлили отправить их на тот свет». Последняя фраза г. корреспондента нам кажется написанной единственно из суетного желания не отставать в понимании варшавских событий в смысле первенствующего значения в них известных «зверообразных» личностей. Это тем более несправедливо, что из других корреспонденций того же автора мы узнаем, что Скублинские до такой степени изнуренные нуждою существа, что при полицейском осмотре из всех пяти злодеек только на одной была рубашка, а все прочие носили свои лохмотья на голом теле! Еще более несправедливое мнение о Скублинских заключается в обвинении их в умысле морить детей голодом[6 - В воспитательных домах Петербурга и Москвы в течение 125 лет умерло до 21-летнего возраста из 1 293 917 принятых подкидышей – 1 188 646, то есть 88 %. Расход годовой 2 1/2 милл. Каждый ребенок обходится в год 690 руб. («Нов<ое> вр<емя>«, № 5030).]: «на семь подкидышей Скублинская покупала всего-навсего полбутылки молока». Но варшавский приют отказал не семи, а (в течение десяти лет) пятнадцати тысячам младенцев даже и в единой капле молока, оправдывая свой поступок недостатком средств! Действительно, средств у приюта маловато. «Любовь к ближнему» как бы закаменела в сердцах его руководителей на тех тридцати тысячах рублей ежегодных расходов, которые в той же неизменной цифре тратились приютом с первых дней его открытия и до последнего дня настоящего года. Этот недостаток средств (а какие средства у Скублинской?) несомненно свидетельствует именно об окаменении человеколюбивого чувства, потому что если бы в нем не замерла идея милосердия, положенная в основание учреждения, он бы не мог не возвестить обществу о необходимой помощи.
Не менее бесчувственное отношение видим мы в полнейшем безучастии общества к явной, очевидной для каждого обывателя, гибели целых тысяч брошенных детей, нарожденных бедным, пришлым из-за куска хлеба, народом. В течение десяти лет в глазах Варшавы один за другим возникали процессы о «фабриках ангелов», но город довольствовался решениями суда, взыскивая со Скублинских по 50 руб. штрафа, и ни малейшим образом не ощущал на своей совести обязательной для него, неминуемой, неизбежной повинности.
4
Недостаток средств начинают испытывать также и земства, добровольно принявшие на свои плечи бремя городских обязанностей. Несколько лет тому назад губернское земство выстроило в гор. Самаре при земской больнице приют для подкидышей и устроило в воротах больницы ясли, «куда безбоязненно могли бы опускать младенцев, составляющих по той или иной причине тягость для их родителей». Затем у земства явилась мысль: «что делать с приемышами, когда они подрастут?» – вследствие чего управе было поручено выработать доклад о дальнейшей судьбе питомцев приюта. На следующий год управа доложила очередному собранию, что, по ее мнению, «прежде чем придет для губернского собрания время забот о дальнейшей судьбе подкидываемых детей, ему предстоит решить неотложный вопрос о том, что делать с той массой детей, которую создал и вызвал практикуемый ныне порядок». Докладчики заявляли, что если останутся «ясли» и ничем не стесняемое подкидывание в них младенцев, то лет через пять будут подбрасывать по нескольку тысяч детей, и на воспитание их, быть может, нехватит всей сметы губернского земства; если же будет установлен открытый прием младенцев, то «с уверенностью можно сказать, что число подкидываемых сразу уменьшится и будет выражением действительной нужды, а не корысти и злоупотреблений». Несмотря на возгласы и протесты лже-филантропов (?), земское собрание 18-го декабря 1888 г. постановило: «ясли при приюте закрыть»[7 - «Русск<ие> вед<омости>«, 1889 г., № 21.]. A вслед за тем, прибавим от себя, в «Русск<их> ведомост<ях>«появилась корреспонденция из Самары, в которой сказано, что «злоупотребления» продолжаются, несмотря на закрытие яслей, и подкидышей стали подбрасывать прямо на лестницу земской управы, что и доказывает неосновательность мнения, высказанного в сообщении из Самары, будто бы количество подкидышей возрастает именно вследствие закрытого приема подкидышей. Варшава неопровержимо доказала неосновательность этого предположения. Но что совершенно справедливо в сообщении самарского корреспондента, так это именно то, что действительно у самарского, да и у всякого, земства нехватит и всего земского бюджета, если только оно, земство, будет брать на свои плеча ответственность за грехи городских обывателей.
Самара – город богатейший, с каждым днем расширяющий пределы коммерческих операций, и, следовательно, обязанный отвечать за участь случайно рожденных в среде чернорабочего народа, который поглощается Самарою десятками тысяч и который обогащает ее обывателей миллионами. Средств у городского обывателя должно быть полным-полно, и расплатиться ему за собственные свои грехи ничего не стоит, если только он (как и вообще все городские управления) не будет извлекать средств из нищенского заработка того же рабочего люда, как это делается теперь. Та же Самара не только создает «огромные» театры и величественные здания, стоящие многих сотен тысяч, но без малейшего вреда для своего сундука, и даже прямо без всякого расчета, может просто-таки «швырять» деньги, как говорится, «на ветер» и притом опять-таки тысячами[8 - За что, например, самарская дума заплатила архитектору г. Жиберу около трех тысяч рублей и зачем собственно вызвала его из Петербурга? По словам одного из самарских корреспондентов, дума вызвала г. Жибера, во-первых, «для выполнения деталей по внешней отделке строящегося собора и, во-вторых, для увенчания здания куполами». Эти сведения первого корреспондента опровергает второй: дума, – говорит он, – в заседании 2-го апреля 1885 года постановила обратиться к г. Жиберу не за разработкой деталей и не для покрытия здания куполами, а с тем, чтобы он приехал освидетельствовать появившиеся трещины в недостроенном еще соборе. Первый корреспондент прибавляет к двум опровергнутым уже сведениям еще и третье: «Жибер одобрил постройку купола, получил за осмотр 3000 р.» Но и это третье сведение первого корреспондента также оказывается опровергнутым вторым корреспондентом: г. Жибер не мог одобрить постройку купола, так как в бытность его в Самаре в 1885 постройка была доведена до барабанного кольца и куполов еще не существовало. Г. Жибер получил не 3000 р., а 2000 р. Что же касается трещины, о которой сообщает первый корреспондент, то второй корреспондент вовсе не протестует против этого сообщения и говорит о трещине так: «В настоящее время есть одна значительная трещина, видимая снаружи, появившаяся еще в 1882 г. вследствие неравномерной осадки, но не имеющая никакого значения». И вследствие того, что видимая снаружи трещина не имеет никакого значения, второй корреспондент опять опровергает первого, утверждая, что за видимую трещину Жибер во второй приезд получил «не 3000 р., как утверждает первый, а всего 600 руб.». Теперь пусть сам читатель решит, за что собственно получил 2 тысячи 600 рублей архитектор Жибер, и вообще, во имя каких существенных надобностей выбросила на ветер 2 600 рублей касса самарского городского управления?].
В прямое подтверждение невозможности для земства отвечать за чужие грехи может служить ужаснейшее положение земского приюта для подкидышей в Симферополе, о котором сообщает самые мрачные сведения корреспондент «Моск<овских> вед<омостей>«. Дети мрут массами как в приюте, так и в деревнях, чего таврическое земство и не утаивает. Но стоит только представить себе, что такое означает Таврическая губерния в смысле потребления для хозяйственных надобностей главным образом опять-таки молодого женского поколения, чтобы знать, кто именно настоящий ответчик за брошенных детей. Одно овцеводство, стрижка и мойка шерсти в хозяйствах, имеющих стада овец в десятки и сотни тысяч, поглощает труд сотни и тысячи женских рабочих рук. Корреспондент и само земство объясняют смертность подкидышей невозможностью иметь кормилиц. Но ведь кормилицы-то и есть те работницы, которых из-за куска хлеба поглощают крупнейшие хозяйства южнорусского края. Стоит побыть в июньской ярмарке в Каховке, близ Херсона, в этом центральном пункте покупки и продажи рабочих рук, чтобы видеть, какое количество женской молодежи, нанимаемой на полевые работы, на табачные плантации, на хозяйства, практикующие овцеводство, поглощается Крымом, Юго-западным краем и Новороссийским краем, и чтобы убедиться, что ничего подобного не знали их родные матери, будучи крепостными и подневольными.
5
Из всего, что было сказано, кажется, уже есть некоторая возможность сделать более или менее определенные заключения: каждый ребенок, законно или незаконнорожденный, все равно, раз он брошен, покинут на произвол судьбы его родною матерью, несомненно свидетельствует о полнейшей невозможности для нее исполнить должным образом свои материнские обязанности.
Причины такого безвыходного положения женщин, в большинстве принадлежащих к крестьянской среде, таятся, прежде всего, в многосложном расстройстве трудового строя народной жизни. Не касаясь всей многосложности этого расстройства (именно потому, что оно действительно многосложно), для нас достаточно будет указать, во-первых, на отхожие промыслы (следствие невозможности существовать земледельческим трудом) и, во-вторых, на воинскую повинность. То и другое отнимает от деревни массы мужской молодежи и преграждает, таким образом, равной по количеству массе молодежи женской возможность существовать собственным своим хозяйством, вследствие чего отхожие промыслы становятся необходимостью также и для женской молодежи.
Вот из этого-то многочисленного количества крестьянских женщин, не имеющих возможности существовать своим хозяйством, прежде всего получают великое множество всякого рода женской прислуги города, городские обыватели, и, следовательно, они же должны быть и первыми ответчиками за последствия случайных сожительств трудящихся для блага обывателей безмужних женщин.
За городами следуют, как потребители женского труда, так и ответчики за последствия случайных сожительств, фабрики и заводы[9 - Вот случайно попавшее на глаза известие, когда писалась эта заметка. «Орехово-Зуево. 1-го марта. Сюда стали стекаться массы рабочего народа… Наполовину женщины, требующиеся на пунцовых фабриках по уборке, расстилке и сушке тканей. Фабриканты не спешат наймом, ссылаясь на прошлогодний запас товаров». «Русск<ие> вед<омости>«, № 61.] всякого рода, и в особенности фабрики и заводы, специально эксплуатирующие женский труд, как эксплуатируют, например, табачные фабрики[10 - В одном Ростове-на-Дону на двух фабриках насчитывается более 4 т<ысяч> девушек.].
За фабриками и заводами следуют, как потребители и ответчики, вообще все те предприятия, промышленные и хозяйственные, которые так или иначе пользуются трудом безмужних и бесхозяйственных женщин.
Что же касается до организации дела сохранения жизни и дальнейшей участи подкидышей, то мы не имеем даже и возможности касаться этого многосложного дела в настоящей заметке, имевшей целью только определить: кто именно виновник и ответчик за погибель такого множества брошенных детей и на ком лежит обязанность давать средства, «платить деньги» и образовать общий сиротский для всего государства капитал на спасение и воспитание «брошенных детей».
Примечания
Впервые опубликовано в газете «Русские ведомости», 1890, № 63, 6 марта, под заголовком «О царе Ироде» (по поводу варшавских детоубийств)». Затем включено в третий том сочинений Успенского.
Поводом для написания статьи послужило уголовное дело некоей Скублинской и ее сообщников, слушавшееся в конце октября 1890 года в Варшавском окружном суде («Варшавский дневник», 1890, 24 октября – 1 ноября, №№ 231–238) и привлекшее широкое общественное внимание. Скублинская жила тем, что принимала за вознаграждение «на воспитание» детей, приносимых ей матерями, и кроме того брала их из воспитательного дома. Младенцы выдерживали недолго: они умирали от голода и от отсутствия ухода. Количество детей, умерщвленных Скублинской, осталось неустановленным; во всяком случае оно составляло несколько десятков. Приговор суда носил чрезвычайно мягкий характер: Скублинская и ее компаньонка были приговорены к трем годам тюремного заключения, остальные сообщники осуждены на срок до шести месяцев.
Подготовляя статью для собрания сочинений, Успенский исключил ее первый раздел, в котором говорилось об изображениях сюжета «избиение младенцев при царе Ироде», где фигурируют воины, убивающие детей, и нет «виновника – царя Ирода, по злодейскому замыслу которого и совершается все то, что изображено на картине». Упоминание о деле Скублинской было перенесено в примечание, а вся статья поставлена в связь со статьей «Крестьянские женщины» как ее продолжение, посвященное теме бедственного положения одиноких матерей, вынужденных «подкидывать» своих детей. Виновником трагической судьбы трудящейся женщины, работающей по найму, Успенский считает «город», находящийся во власти «господина Купона», то есть капиталистический режим, о чем достаточно ясно говорится в статье.
notes
Сноски
1
Эта заметка написана в самый разгар всеобщего гнева против «варшавских детоубийц». «Женщины Ироды», «Избиение младенцев» – иначе не говорилось в печати о Скублинской и ее зверских злодействах. В конце ноября 1890 г. в Варшаве окончился процесс Скублинской, и общественная совесть чистосердечно сказала об этом деле свое справедливое, даже покаянное слово: «Варшавский дневник», сообщая судебный отчет по делу Скублинской, между прочим замечает: «Скублинская все больше и больше располагает к снисхождению не только жалким видок, частыми слезами и, повидимому, искренностью в показаниях, но и впечатлением, вызванным всем ходом дела, – складывается убеждение, что она совсем не такой изверг, каким представила ее обществу печать, и даже не в такой степени преступна, как ее изображали».
2
«Казанский листок».
3
«Волжск<ий> вестн<ик>«, 1889 г., № 215.
4
В № 213-м «Волжского вестника» 1889 г. помещена заметка: «Один из сотни подкидышей», вопиющая о грубом равнодушии общества к этим несчастным человеческим существам. Одно уж заглавие заметки «Один из сотни» свидетельствует о количестве этих брошенных детей. «Здесь трудно обвинять мать ребенка, – говорит автор заметки, – бог знает, какие тяжелые условия заставили ее бросить свое детище? Может быть, стыд, может быть, страх перед людьми, нищета – были причиной, побудившей несчастную забыть чувства матери?.. Теперь все эти подкидыши поступают на воспитание в земское сиротское отделение, но поступают туда далеко не все: половина их мрет под заборами, пока будут замечены прохожим». О тяжких условиях мы имеем уже понятие из разбирательства у мирового судьи, приведенного выше.
5