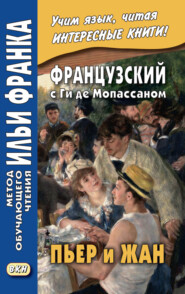По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Жизнь
Автор
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Другая одноколка доехала до «Тополей». Жанна издали увидела ее, различила матрац, угадала, что на нем лежит тело, и поняла все. Ее волнение было так велико, что она упала без чувств.
Когда она пришла в себя, отец поддерживал ее голову и мочил ей уксусом виски. Он спросил нерешительно:
– Ты знаешь?
– Да, папа, – прошептала она.
Она захотела подняться, но не смогла: так сильно она страдала.
В тот вечер она родила мертвого ребенка – девочку.
Она не видела похорон Жюльена и ничего о них не спрашивала. Она заметила только через день или два, что вернулась тетя Лизон, и среди мучительных кошмаров лихорадки упрямо старалась припомнить, когда старая дева уехала из «Тополей», в какое время и при каких обстоятельствах. Она не могла вспомнить этого даже в часы просветления и была уверена только в том, что уже видела ее после смерти мамочки.
XI
Три месяца пробыла она в своей спальне и стала такой слабой и бледной, что все считали ее положение безнадежным. Но мало-помалу жизнь вернулась к ней. Папочка и тетя Лизон не оставляли ее: они поселились в «Тополях». Пережитое потрясение вызвало у Жанны нервную болезнь; малейший шум доводил ее до потери сознания, и она впадала в продолжительные обмороки от самых незначительных причин.
Она никогда не расспрашивала о подробностях смерти Жюльена. Какое ей до этого дело? Разве она и без того не достаточно знает? Все верили в несчастный случай, но она-то не могла заблуждаться и хранила в сердце своем тайну, которая мучила ее: уверенность в измене и воспоминание о внезапном и ужасном появлении графа в день катастрофы.
Теперь душа ее была проникнута нежными, сладкими и грустными воспоминаниями о кратких радостях любви, которые ей некогда дарил муж. Она вздрагивала каждый миг, когда ее память неожиданно пробуждалась; она видела его таким, каким он был в дни помолвки и каким она любила его в немногие часы страсти, расцветшей под жгучим солнцем Корсики. Все недостатки его сглаживались, грубость исчезла, самые измены смягчились теперь, когда все дальше и дальше отходила в прошлое закрывшаяся могила. Жанна, охваченная какой-то смутной посмертной благодарностью к человеку, державшему ее в своих объятиях, прощала ему былые страдания, чтобы вспоминать лишь счастливые минуты. А время шло и шло, месяцы сменялись месяцами и покрывали забвением, словно густою пылью, ее воспоминания, ее горести, и она всецело отдалась сыну.
Он сделался кумиром, единственной мыслью троих людей, окружавших его; он царил, как деспот. Между тремя его рабами возникло даже нечто вроде ревности, и Жанна нервно следила за горячими поцелуями, которыми мальчик осыпал барона после поездки верхом на его колене. А тетя Лизон, которою он, как и все домашние, пренебрегал, обращаясь с нею порой как с прислугой, хотя еще едва лепетал, уходила плакать в свою комнату и горько сравнивала жалкие ласки, которые ей еле-еле удавалось вымолить у него, с теми объятиями, которые он берег для матери и деда.
Мирно, без всяких событий, протекли два года в постоянных заботах о ребенке. С наступлением третьей зимы решено было поселиться в Руане до весны; вся семья перебралась туда. Но по приезде в старый, заброшенный и отсыревший дом Поль схватил такой сильный бронхит, что опасались плеврита, и трое растерявшихся взрослых решили, что он не может жить без воздуха «Тополей».
Как только он поправился, его перевезли туда.
С тех пор потянулась однообразная и тихая жизнь.
Всегда вместе с малюткой, то в детской, то в зале, то в саду, взрослые восторгались его болтовней, его смешными выражениями и жестами.
Мать звала его ласкательным именем Поле; он же не мог его выговорить и произносил Пуле[2 - Poulet – цыпленок (фр.).], что вызывало нескончаемый смех. Прозвище Пуле так за ним и осталось. Иначе его уже не называли.
Мальчик рос быстро, и самым любимым занятием его близких, или, как говорил барон, «его трех матерей», было измерение его роста.
На косяке двери зала образовался целый ряд тоненьких полосок, сделанных перочинным ножом, которые ежемесячно отмечали прибавление его роста. Эта лестница, окрещенная «лестницею Пуле», занимала большое место в жизни его родных.
Вскоре видную роль в семье начало играть еще одно новое существо – собака Массакр, которую Жанна совершенно забыла, всецело занятая сыном. Питомица Людивины помещалась в старой конуре возле конюшни и жила одиноко, всегда на цепи.
Как-то утром Поль заметил ее и поднял крик, чтобы его пустили поцеловать собаку. Его подвели к ней с великим страхом. Собака явилась для ребенка настоящим праздником, и он разревелся, когда их захотели разлучить. Тогда Массакра спустили с цепи и водворили в доме.
Он был неразлучен с Полем, сделался его настоящим товарищем. Они вместе катались по ковру и рядышком на нем засыпали. Вскоре Массакр стал спать в кроватке своего друга, так как тот не соглашался расставаться с ним. Жанна приходила в отчаяние из-за блох, а тетя Лизон сердилась на собаку за то, что та завладела чересчур крупной долей любви ребенка, любви, украденной, как ей казалось, этим животным и которой так жаждала она сама.
Изредка обменивались визитом с Бризвилями и Кутелье. Только мэр и доктор регулярно нарушали уединение старого замка. Жанна после убийства собаки, а также из-за подозрений, появившихся у нее относительно священника со времени трагической смерти графини и Жюльена, перестала посещать церковь, негодуя на бога за то, что он может иметь подобных служителей.
Аббат Тольбьяк время от времени в прозрачных намеках предавал анафеме замок, где воцарился дух Зла, дух Вечной Смуты, дух Заблуждения и Лжи, дух Беззакония, дух Разврата и Нечестия. Все это относилось к барону.
Его церковь, впрочем, опустела, и, когда он обходил поля, пахари налегали на свой плуг, крестьяне не останавливались, чтобы поболтать с ним, и не поворачивались даже, чтобы ему поклониться. Помимо всего, он прослыл за колдуна, потому что изгнал дьявола из одной одержимой женщины. Говорили, что аббат знает таинственные слова против порчи, которая, по его мнению, не что иное, как особый вид сатанинских каверз. Он возлагал руки на коров, когда они давали синее молоко или завивали хвосты кольцами, и помогал разыскивать пропавшие вещи, произнося какие-то непонятные слова.
Его ограниченный фанатический ум со страстью предавался изучению религиозных книг, содержащих истории о проделках дьявола на земле, о разнообразных проявлениях его власти и скрытого воздействия, о всевозможных средствах, какими он располагает, и обычных приемах его хитрости. А так как он считал себя призванным, в частности, бороться с этой темной и роковою силою, он тщательно изучил все формулы заклинаний, указанные в богословских руководствах.
Ему постоянно мерещилась в сумерках бродячая тень злого духа, и с его уст не сходила латинская фраза: sicut leo rugiens circuit quoerens quem devoret.[3 - Как лев рыкающий блуждает он, ища, кого бы пожрать (лат.).]
Тогда его тайной силы начали бояться, она стала приводить в ужас. Даже его собратья, невежественные деревенские священники, для которых Вельзевул являлся просто догматом веры и которые были до того сбиты с толку кропотливыми предписаниями обрядов, полагающихся в случае проявления нечистой силы, что начинали смешивать религию с магией, – эти священники тоже считали аббата Тольбьяка немного колдуном и столько же уважали его за предполагавшееся в нем таинственное могущество, сколько и за безупречную строгость жизни.
При встречах с Жанной он не кланялся ей.
Такое положение вещей беспокоило и приводило в отчаяние тетю Лизон, которая своею боязливой душой старой девы совершенно не могла постигнуть, как это можно не ходить в церковь. Несомненно, она была благочестива, несомненно, она исповедовалась и причащалась, но этого никто не знал, да и не пытался узнать.
Когда она оставалась одна, совершенно одна с Полем, она потихоньку рассказывала ему о милосердном боженьке. Он слушал краем уха полные чудес истории о первых днях творения, но когда она поучала его, что нужно крепко-крепко любить милосердного боженьку, он спрашивал ее порою:
– А где же он, тетя?
Тогда она показывала пальцем на небо:
– Там – высоко, Пуле, но не надо об этом говорить.
Она боялась барона.
Однажды Пуле объявил ей:
– Боженька повсюду, но только не в церкви.
Это он рассказал дедушке о мистических откровениях тетки.
Ребенку исполнилось десять лет, а его матери можно было дать сорок. То был сильный, шаловливый мальчик, смело лазивший по деревьям, но ничему как следует не учившийся. Уроки ему надоедали, и он старался поскорее прекратить их. И каждый раз, когда барон дольше обыкновенного удерживал его за книгой, появлялась Жанна и говорила:
– Теперь пусти его поиграть. Не нужно утомлять его, он еще такой маленький.
Для нее он был по-прежнему шестимесячным или годовалым ребенком. Она с трудом отдавала себе отчет, что он уже ходит, бегает и разговаривает как подросток, и она жила в вечном страхе, как бы он не упал, как бы не простудился, как бы не вспотел, как бы не повредил желудок, поев слишком много, или не повредил росту, поев слишком мало.
Когда ему исполнилось двенадцать лет, возник серьезный вопрос: вопрос о первом причастии.
Однажды утром Лизон пришла к Жанне и стала убеждать ее в том, что нельзя дольше оставлять ребенка без религиозного воспитания и без выполнения им своих первейших обязанностей. Она доказывала на все лады, приводила тысячу доводов, и главным из них было мнение людей, с которыми они общались. Смущенная и нерешительная мать колебалась, уверяя, что можно еще подождать.
Но когда через месяц она была с визитом у графини де Бризвиль, эта дама спросила ее мимоходом:
– Вероятно, ваш Поль получит первое причастие в этом году?
Захваченная врасплох, Жанна отвечала:
– Да, сударыня.
Этот простой вопрос придал ей решимости, и, не советуясь с отцом, она попросила Лизон водить ребенка на уроки катехизиса.
В течение месяца все обстояло хорошо, но однажды вечером Пуле вернулся домой немного охрипшим. На следующий день он стал кашлять. Перепугавшаяся мать спросила сына и узнала, что кюре заставил его стоять до конца урока у дверей церкви, в сенях, на сквозняке, так как он дурно себя вел.
Она оставила сына дома и стала обучать его сама этой азбуке религии. Но аббат Тольбьяк, несмотря на мольбы Лизон, отказался включить его в число причастников как недостаточно подготовленного.