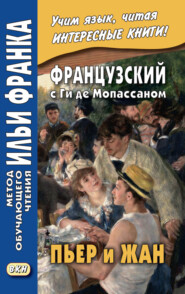По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лучшие новеллы (сборник)
Автор
Жанр
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Никому из них, очевидно, это раньше не приходило в голову, и теперь все поспешили к карете. Трое мужчин усадили своих жен и влезли вслед за ними; оставшиеся места заняли другие укутанные фигуры, едва видные в темноте, не обменявшись при том ни словом.
Пол дилижанса был устлан соломой, в которой утопали ноги. Дамы, сидевшие в глубине, зажгли захваченные ими с собой медные грелки с бездымным углем и в течение некоторого времени вполголоса перечисляли все их достоинства, повторяя то, что всем было давно известно.
В дилижанс впрягли ввиду трудной дороги шесть лошадей вместо обычной четверки, и наконец голос снаружи спросил:
– Все пассажиры сели?
– Все, – ответили изнутри, и дилижанс тронулся.
Ехали очень медленно, шагом. Колеса увязали в снегу; весь кузов кряхтел и глухо поскрипывал; ноги лошадей скользили, они храпели, от них поднимался пар. Огромный бич кучера беспрестанно щелкал, взлетая то с одной, то с другой стороны, свиваясь и развиваясь, как тонкая змея, и вдруг неожиданно обрушивался на один из колыхавшихся впереди крупов, после чего тот напрягался в новом усилии.
Между тем незаметно наступало утро. Легкие снежные хлопья, которые один из путешественников, истый руанец, сравнил с дождем из хлопка, перестали падать. Мутный рассвет просачивался сквозь тяжелые темные облака, от мрака которых еще ослепительнее казалась снежная белизна полей, где мелькал то ряд высоких деревьев, одетых инеем, то хижина под шапкой снега.
При печальном свете занимающейся зари пассажиры в дилижансе с любопытством разглядывали друг друга.
В самой глубине, на лучших местах дремали, сидя друг против друга, супруги Луазо, оптовые виноторговцы с улицы Гран-Пон.
Луазо, бывший когда-то приказчиком, откупил у своего хозяина, когда тот разорился, его предприятие и разбогател. Он продавал мелким сельским лавочникам по очень дешевой цене очень плохое вино и слыл среди друзей и знакомых ловким пройдохой, настоящим нормандцем, плутом и весельчаком.
Репутация жулика так прочно за ним установилась, что, когда на одном вечере в префектуре местная знаменитость, г-н Турнель, сочинитель песенок и басен, человек острого и язвительного ума, видя, что дамы скучают, предложил им сыграть в «L’oiseau vole»[5 - Игра слов: L’oiseau vole – птица летит (название игры), Loiseau vole – Луазо ворует.], острота эта облетела залы префектуры, затем пошла гулять по всем салонам города, и еще целый месяц над ней хохотали во всей округе.
Луазо славился еще всевозможными проделками и шутками, иногда удачными, иногда плоскими. Говоря о нем, непременно добавляли: «Уморительный этот Луазо!»
Коротенький, с большим животом, он походил на шар, увенчанный багровой физиономией с седеющими бакенбардами.
Жена его, рослая, сильная, с громким голосом и решительным характером, представляла элемент порядка и точности в их торговом деле, тогда как муж оживлял его своей веселой энергией.
Рядом с четой Луазо восседал полный достоинства г-н Карре-Ламадон, представитель более высокого сословия, важное лицо, игравшее видную роль в текстильной промышленности, владелец трех бумагопрядильных фабрик, офицер ордена Почетного легиона и член Генерального совета. За все время Империи он оставался вождем благожелательной оппозиции с той единственной целью, чтобы получить поддержку со стороны того режима, с которым он, по его собственному выражению, всегда боролся лишь рыцарским оружием. Г-жа Карре-Ламадон, бывшая значительно моложе своего мужа, служила отрадой и утешением для всех офицеров из хороших семей, попадавших в руанский гарнизон.
Она сидела против супруга, прелестная, миниатюрная, вся утопая в своих мехах, и с сокрушением оглядывала убогую внутренность экипажа.
Ее соседи, граф Юбер де Бревиль с супругой, принадлежали к одной из самых старинных и знатных фамилий Нормандии. Граф, старый аристократ с величественной осанкой, старался путем разных ухищрений в туалете подчеркнуть свое природное сходство с Генрихом IV, которого славное семейное предание называло виновником беременности одной из дам рода де Бревиль. Муж ее получил за это графский титул и был сделан губернатором провинции.
Граф Юбер, как и Карре-Ламадон, был членом Генерального совета, в котором он представлял партию орлеанистов своего округа. История его женитьбы на дочери мелкого нантского судовладельца навсегда осталась загадкой. Но, так как графиня держала себя с достоинством знатной дамы, лучше всех умела принимать гостей и даже, как говорили, была некогда возлюбленной одного из сыновей Луи-Филиппа, вся знать носила ее на руках, и салон ее считался первым во всем крае, единственным, где еще сохранилась былая галантность и куда далеко не все имели доступ.
Состояние Бревилей, заключавшееся в землях и поместьях, приносило им, как говорили, до пятисот тысяч ливров годового дохода.
Эти шесть человек, занявшие всю глубину кареты, составляли обеспеченную, влиятельную и благонамеренную часть общества. То были люди почтенные, пользовавшиеся авторитетом, люди религии и принципов.
По странной случайности все три женщины оказались на одной скамье, и рядом с графиней де Бревиль сидели две монахини, все время перебиравшие четки и бормотавшие молитвы. У одной из них, старухи, лицо было так изрыто оспой, словно в него выпустили в упор целый заряд дроби. Другая, слабенькая и тщедушная, с красивым болезненным лицом и чахоточной грудью, казалась иссушенной всепожирающей верой, которая создает мучеников и фанатиков.
Сидевшие против монахинь мужчина и женщина привлекали к себе общее внимание.
Мужчина был хорошо известный демократ Корнюде, предмет ужаса всех почтенных людей. В течение двадцати лет он купал свои длинные рыжие усы в пивных кружках всех демократических кабачков. С компанией друзей и соратников он проел довольно большое состояние, оставленное ему отцом, бывшим кондитером, и с нетерпением ожидал республики, чтобы занять наконец подобающее положение, заслуженное столь обильными революционными возлияниями. В день 4 сентября, вероятно в результате чьей-то шутки, он вообразил, что назначен префектом; но когда он хотел приступить к исполнению обязанностей, то чиновники, оставшиеся единственными хозяевами канцелярии, отказались его признать, и ему пришлось ретироваться. В общем, Корнюде был славный малый, безобидный и услужливый. В последнее время он очень рьяно занялся организацией обороны. Он приказал рыть ямы на полях и срубить все молодые деревья в окрестных рощах, усеять западнями все дороги и, вполне удовлетворенный этими приготовлениями, при приближении неприятеля поспешно отступил к городу. Сейчас он полагал, что будет более полезен в Гавре, где, вероятно, также понадобится обнести город окопами.
Женщина, сидевшая рядом с ним, принадлежала к числу особ легкого поведения и славилась своей чрезмерной для ее возраста полнотой, за которую ее прозвали Пышкой. Маленькая, круглая, как шар, заплывшая жиром, с пухлыми, перехваченными в суставах пальцами, напоминавшими связку коротеньких сосисок, с тугой и лоснящейся кожей, с огромной грудью, выступающей под платьем, она тем не менее была весьма привлекательна и пользовалась большим успехом благодаря своей привлекательной свежести. Лицо ее походило на румяное яблоко, на готовый распуститься пион; в верхней части этого лица выделялась пара великолепных черных глаз, осененных густыми и длинными ресницами, бросавшими тень на щеки, а в нижней – прелестный ротик, маленький, влажный, словно созданный для поцелуя, с мелкими и блестящими зубками.
Как уверяли, она обладала еще и другими неоценимыми достоинствами.
Как только ее узнали, между порядочными женщинами началось шушуканье и слова «проститутка», «позор» послышались так явственно, что Пышка подняла голову. Она обвела соседей таким смелым и вызывающим взглядом, что сразу воцарилось молчание и все опустили глаза. Один только Луазо игриво поглядывал на нее.
Но вскоре между тремя дамами, которых присутствие этой особы сразу сблизило, превратив чуть ли не в интимных подруг, снова завязался разговор. Они почувствовали, что им, добродетельным супругам, следует заключить союз против этой лишенной стыда продажной твари. Ибо законная любовь всегда с презрением смотрит на свою свободную сестру.
Трое мужчин, которых инстинкт консерватизма тоже объединил при виде Корнюде, завели беседу о денежных делах, в которой звучало некоторое высокомерие по отношению к беднякам. Граф Юбер рассказывал о больших убытках, которые он потерпел из-за пруссаков, – о расхищенном скоте, погибшем урожае, но в голосе его слышалась уверенность крупного землевладельца и миллионера, которого эти потери могли стеснить разве на какой-нибудь год, не больше, г-н Карре-Ламадон, крупная величина в текстильной промышленности, позаботился на всякий случай перевести в Англию шестьсот тысяч франков, чтобы не бояться сюрпризов в это смутное время. Что касается Луазо, то он сумел сбыть французскому интендантству все оставшиеся у него в погребах простые вина, и теперь ему причиталась от казны огромная сумма, которую он и рассчитывал получить в Гавре.
Все трое дружески переглядывались. Несмотря на разницу в общественном положении, они чувствовали себя как бы братьями по богатству, членами одного великого масонского союза – союза тех, кто владеет, тех, у кого в карманах звенит золото.
Дилижанс подвигался так медленно, что к десяти часам утра они не проехали и четырех миль. Мужчинам пришлось три раза вылезать и идти в гору пешком. Пассажиры начали беспокоиться, так как они рассчитывали завтракать в Тоте, а между тем теперь уже нечего было надеяться добраться туда раньше ночи. Все смотрели на дорогу в надежде увидеть какой-нибудь кабачок, как вдруг дилижанс завяз в снежном сугробе, и понадобилось два часа, чтобы вытащить его оттуда.
Голод усиливался, портил всем настроение; а на дороге – ни одного трактира, ни одного кабачка: близость пруссаков и проходившие здесь голодные французские солдаты разогнали всех торговцев.
В поисках чего-нибудь съестного мужчины обегали все придорожные фермы, но не достали даже хлеба. Недоверчивые крестьяне, опасаясь грабежей, попрятали все запасы, так как изголодавшиеся солдаты отнимали у них силой все, что находили.
Около часу дня Луазо объявил, что у него положительно подвело живот. Другие давно уже испытывали такие же муки; голод все сильнее давал себя знать и заставил умолкнуть все разговоры.
Время от времени кто-нибудь зевал, и почти тотчас же другой следовал его примеру. Каждый зевал по-своему, в зависимости от характера, воспитания и общественного положения: кто – широко и шумно, кто – тихонько, быстро прикрывая рукой разинутый рот, из которого шел пар.
Пышка несколько раз нагибалась, как бы ища что-то на полу, под своими юбками. Но всякий раз она с минутку колебалась, взглядывала на соседей и снова выпрямлялась. Все лица вокруг побледнели и вытянулись. Луазо объявил, что он охотно заплатил бы тысячу франков за маленький окорок. Жена его сделала невольный жест, как бы собираясь протестовать, но потом успокоилась. Ей всегда было тяжело слышать, что люди сорят деньгами, и даже шуток на этот счет она не понимала.
– Должен сознаться, что я чувствую себя не особенно хорошо, – сказал граф. – Как это я не догадался захватить чего-нибудь съестного?!
Остальные мысленно упрекали себя в том же.
У Корнюде нашлась полная фляжка рому; он предложил ее спутникам, но все холодно отказались. Только Луазо отхлебнул из фляжки два раза и, возвращая ее владельцу, с благодарностью сказал:
– Это очень недурно: и согревает, и заглушает голод.
Выпитый ром привел его в хорошее настроение, и он предложил сделать так, как рассказывается в известной песне о корабле: съесть самого жирного из путешественников. Этот намек на Пышку пришелся не по вкусу благовоспитанной компании. Никто не откликнулся на шутку, один только Корнюде улыбнулся. Монахини перестали бормотать молитвы и, спрятав руки в длинные рукава, сидели неподвижно, упорно не поднимая глаз и, вероятно, взывая к небу о помощи в ниспосланном им испытании.
Наконец в три часа, когда экипаж находился среди бесконечной равнины, где не видно было ни единой деревушки, Пышка быстро нагнулась и достала из-под скамьи корзину, покрытую белой салфеткой.
Сначала она вынула оттуда фаянсовую тарелочку и красивый серебряный бокал, затем большую миску, где лежали в застывшем соусе два цыпленка, разрезанные на куски; в корзине виднелись еще другие вкусные вещи, завернутые в бумагу: пирожки, фрукты, сласти – провизия, запасенная дня на три с таким расчетом, чтобы не было надобности пользоваться кухней постоялых дворов. Среди свертков с провизией торчали горлышки четырех бутылок. Пышка взяла из миски крылышко цыпленка, достала маленький хлебец – из тех, что в Нормандии называют «режанс», и принялась аккуратно есть.
Все взгляды устремились на нее. От аппетитного запаха раздувались ноздри, рты наполнялись слюной, и мучительно сжимались челюсти. Презрение дам к «этой девке» превратилось в яростную злобу. Казалось, они готовы были ее убить, выбросить вон из кареты в снег вместе с ее бокалом, с ее корзинкой и со всей провизией.
Между тем Луазо пожирал глазами миску с цыплятами. Он сказал:
– Вот это отлично, сударыня!.. Вы оказались предусмотрительнее нас. Есть же люди, которые всегда обо всем подумают!
Пышка, подняв голову, обратилась к нему:
– Не угодно ли и вам, сударь? Ведь нелегко поститься с самого утра.
Луазо поклонился:
– Честное слово, не откажусь; я не в силах больше терпеть. На войне – как на войне! Не правда ли, сударыня?
И, бросив на окружающих взгляд, прибавил: