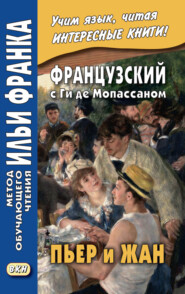По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Жизнь
Автор
Жанр
Год написания книги
1883
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Наконец доктор сказал:
– Я сильно опасаюсь, что это… что это… конец. Соберитесь с мужеством, со всем мужеством.
И, раскинув руки, Жанна бросилась на тело матери.
Вошел Жюльен. Он был ошеломлен и, видимо, раздосадован; у него не вырвалось возгласа явного горя или отчаяния; он оказался захваченным врасплох и не успел подготовить подобающее случаю выражение лица и позу. Он проговорил:
– Я ожидал этого, я чувствовал, что конец близок.
Потом вынул носовой платок, вытер глаза, преклонил колена, перекрестился, пробормотал что-то и, вставая, хотел также приподнять жену. Но она крепко уцепилась за труп, целовала его и почти лежала на нем. Пришлось ее унести. Казалось, она сошла с ума.
Через час ей позволили вернуться. Никакой надежды больше не оставалось. Спальня теперь была превращена в комнату, где лежит покойник. Жюльен и священник тихо беседовали у окна. Вдова Дантю, расположившись поудобнее в кресле – она ведь привыкла дежурить возле усопших – и чувствуя себя дома с той минуты, как здесь появилась смерть, казалось, уже спала.
Наступила ночь. Кюре подошел к Жанне, взял ее за руку и старался ободрить, изливая на ее безутешное сердце елейную волну духовных увещаний. Он заговорил об усопшей, восхваляя ее, употребляя церковные выражения, и с притворной печалью священника, для которого трупы только прибыльны, предложил провести ночь в молитве возле тела.
Но Жанна, судорожно рыдая, отказалась. Она хотела остаться одна, совсем одна, в эту прощальную ночь. Жюльен подошел к ней:
– Это невозможно, я останусь с тобою.
Знаком головы она отвечала «нет», не имея сил сказать больше. Наконец она смогла произнести:
– Это моя мать, моя мать. И я хочу быть одна с ней в эту ночь.
Доктор посоветовал:
– Сделайте, как она хочет; сиделка может остаться в соседней комнате.
Священник и Жюльен согласились, подумав о своих постелях. Затем аббат Пико преклонил колена, помолился, поднялся и вышел со словами: «Это была праведница», – сказанными тем же самым тоном, каким он произносил: «Dominus vobiscum»[1 - «Господь с вами» (лат.).].
Тогда виконт обратился к Жанне уже обычным голосом:
– Не хочешь ли закусить?
Жанна не ответила, так как не догадывалась, что вопрос относится к ней.
Он повторил:
– Тебе следовало бы поесть немного, чтобы поддержать себя.
Она сказала растерянно:
– Пошли сейчас же за папой.
И он вышел, чтобы отправить верхового в Руан.
Она оцепенела, погрузившись в горе, словно и ожидала этого последнего часа пребывания наедине с матерью, чтобы отдаться уносящему ее потоку безнадежной скорби.
Тени наполнили комнату, окутывая мраком усопшую. Вдова Дантю неслышно бродила, отыскивая невидимые предметы и раскладывая их беззвучными движениями сиделки.
Затем она зажгла и тихонько поставила две свечи у изголовья постели на ночной столик, покрытый белой салфеткой.
Жанна, казалось, ничего не видела, ничего не чувствовала, ничего не понимала. Она ждала минуты, когда останется одна. Вошел Жюльен; он пообедал и снова обратился к Жанне с вопросом:
– Ты не хочешь ничего поесть?
Жанна движением головы отвечала: «Нет».
Он сел, скорее с покорным, чем с грустным видом, и молчал.
Они сидели втроем, далеко друг от друга, не двигаясь.
Минутами сиделка, засыпая, слегка всхрапывала, но вдруг снова просыпалась.
Жюльен встал наконец и подошел к Жанне:
– Хочешь теперь побыть одна?
В невольном порыве она схватила его за руку:
– О да, оставьте меня.
Он поцеловал ее в лоб, сказав:
– Я буду заходить к тебе время от времени.
Он вышел с вдовою Дантю, выкатившей свое кресло в соседнюю комнату.
Жанна заперла дверь, потом распахнула настежь оба окна. Прямо в лицо ей пахнуло теплой лаской вечера и свежего сена. Трава на лужайке, скошенная накануне, лежала, залитая лунным светом.
Это сладкое ощущение причинило ей боль, уязвило, словно насмешка.
Она снова вернулась к постели, взяла неподвижную, холодную руку и принялась смотреть в лицо матери.
У нее уже не было отека, как в минуту удара; она, казалось, спала теперь, и спокойнее, чем когда-либо; бледное пламя свечей, колеблемое ветерком, беспрестанно перемещало тени на ее лице, и она точно оживала, точно шевелилась.
Жанна глядела на нее с жадностью, и из глубокой дали ее раннего детства на нее нахлынул рой воспоминаний.
Она припомнила посещения мамочки в монастырской приемной, ее манеру протягивать бумажный кулек с пирожками, множество мелочей, ничтожных подробностей, ее нежные слова, интонации, привычные жесты, ее морщинки у глаз, когда она смеялась, и глубокий вздох удушья, когда она садилась в кресло.
Жанна стояла, глядя на нее, повторяя в каком-то отупении: «Умерла!», – и весь ужас этого слова вставал перед нею.
Лежащая здесь – мать – мамочка – мама Аделаида – умерла! Она не будет больше двигаться, не будет больше говорить, не будет больше смеяться, никогда не будет больше сидеть за столом против папочки; она не скажет больше: «Здравствуй, Жанетта». Она умерла!
Ее заколотят в ящик и опустят в землю, и это будет все. Ее никогда больше не увидят. Возможно ли это? Как, у нее не будет матери? Это милое и столь дорогое лицо, которое Жанна стала видеть с тех пор, как впервые открыла глаза, которое она начала любить с той минуты, как впервые раскрыла объятия, этот неистощимый источник любви, мать, это единственное существо, более дорогое сердцу, нежели все остальные существа в мире, исчезло! Ей остается смотреть всего несколько часов в ее лицо, в это неподвижное лицо, не имеющее выражения; а затем – ничего, больше ничего, одно лишь воспоминание.
Жанна рухнула на колени в ужасном порыве отчаяния и, сжимая простыни сведенными руками, прижавшись к постели ртом, кричала раздирающим голосом, который заглушали белье и одеяла:
– О мама, бедная мама, мама!
– Я сильно опасаюсь, что это… что это… конец. Соберитесь с мужеством, со всем мужеством.
И, раскинув руки, Жанна бросилась на тело матери.
Вошел Жюльен. Он был ошеломлен и, видимо, раздосадован; у него не вырвалось возгласа явного горя или отчаяния; он оказался захваченным врасплох и не успел подготовить подобающее случаю выражение лица и позу. Он проговорил:
– Я ожидал этого, я чувствовал, что конец близок.
Потом вынул носовой платок, вытер глаза, преклонил колена, перекрестился, пробормотал что-то и, вставая, хотел также приподнять жену. Но она крепко уцепилась за труп, целовала его и почти лежала на нем. Пришлось ее унести. Казалось, она сошла с ума.
Через час ей позволили вернуться. Никакой надежды больше не оставалось. Спальня теперь была превращена в комнату, где лежит покойник. Жюльен и священник тихо беседовали у окна. Вдова Дантю, расположившись поудобнее в кресле – она ведь привыкла дежурить возле усопших – и чувствуя себя дома с той минуты, как здесь появилась смерть, казалось, уже спала.
Наступила ночь. Кюре подошел к Жанне, взял ее за руку и старался ободрить, изливая на ее безутешное сердце елейную волну духовных увещаний. Он заговорил об усопшей, восхваляя ее, употребляя церковные выражения, и с притворной печалью священника, для которого трупы только прибыльны, предложил провести ночь в молитве возле тела.
Но Жанна, судорожно рыдая, отказалась. Она хотела остаться одна, совсем одна, в эту прощальную ночь. Жюльен подошел к ней:
– Это невозможно, я останусь с тобою.
Знаком головы она отвечала «нет», не имея сил сказать больше. Наконец она смогла произнести:
– Это моя мать, моя мать. И я хочу быть одна с ней в эту ночь.
Доктор посоветовал:
– Сделайте, как она хочет; сиделка может остаться в соседней комнате.
Священник и Жюльен согласились, подумав о своих постелях. Затем аббат Пико преклонил колена, помолился, поднялся и вышел со словами: «Это была праведница», – сказанными тем же самым тоном, каким он произносил: «Dominus vobiscum»[1 - «Господь с вами» (лат.).].
Тогда виконт обратился к Жанне уже обычным голосом:
– Не хочешь ли закусить?
Жанна не ответила, так как не догадывалась, что вопрос относится к ней.
Он повторил:
– Тебе следовало бы поесть немного, чтобы поддержать себя.
Она сказала растерянно:
– Пошли сейчас же за папой.
И он вышел, чтобы отправить верхового в Руан.
Она оцепенела, погрузившись в горе, словно и ожидала этого последнего часа пребывания наедине с матерью, чтобы отдаться уносящему ее потоку безнадежной скорби.
Тени наполнили комнату, окутывая мраком усопшую. Вдова Дантю неслышно бродила, отыскивая невидимые предметы и раскладывая их беззвучными движениями сиделки.
Затем она зажгла и тихонько поставила две свечи у изголовья постели на ночной столик, покрытый белой салфеткой.
Жанна, казалось, ничего не видела, ничего не чувствовала, ничего не понимала. Она ждала минуты, когда останется одна. Вошел Жюльен; он пообедал и снова обратился к Жанне с вопросом:
– Ты не хочешь ничего поесть?
Жанна движением головы отвечала: «Нет».
Он сел, скорее с покорным, чем с грустным видом, и молчал.
Они сидели втроем, далеко друг от друга, не двигаясь.
Минутами сиделка, засыпая, слегка всхрапывала, но вдруг снова просыпалась.
Жюльен встал наконец и подошел к Жанне:
– Хочешь теперь побыть одна?
В невольном порыве она схватила его за руку:
– О да, оставьте меня.
Он поцеловал ее в лоб, сказав:
– Я буду заходить к тебе время от времени.
Он вышел с вдовою Дантю, выкатившей свое кресло в соседнюю комнату.
Жанна заперла дверь, потом распахнула настежь оба окна. Прямо в лицо ей пахнуло теплой лаской вечера и свежего сена. Трава на лужайке, скошенная накануне, лежала, залитая лунным светом.
Это сладкое ощущение причинило ей боль, уязвило, словно насмешка.
Она снова вернулась к постели, взяла неподвижную, холодную руку и принялась смотреть в лицо матери.
У нее уже не было отека, как в минуту удара; она, казалось, спала теперь, и спокойнее, чем когда-либо; бледное пламя свечей, колеблемое ветерком, беспрестанно перемещало тени на ее лице, и она точно оживала, точно шевелилась.
Жанна глядела на нее с жадностью, и из глубокой дали ее раннего детства на нее нахлынул рой воспоминаний.
Она припомнила посещения мамочки в монастырской приемной, ее манеру протягивать бумажный кулек с пирожками, множество мелочей, ничтожных подробностей, ее нежные слова, интонации, привычные жесты, ее морщинки у глаз, когда она смеялась, и глубокий вздох удушья, когда она садилась в кресло.
Жанна стояла, глядя на нее, повторяя в каком-то отупении: «Умерла!», – и весь ужас этого слова вставал перед нею.
Лежащая здесь – мать – мамочка – мама Аделаида – умерла! Она не будет больше двигаться, не будет больше говорить, не будет больше смеяться, никогда не будет больше сидеть за столом против папочки; она не скажет больше: «Здравствуй, Жанетта». Она умерла!
Ее заколотят в ящик и опустят в землю, и это будет все. Ее никогда больше не увидят. Возможно ли это? Как, у нее не будет матери? Это милое и столь дорогое лицо, которое Жанна стала видеть с тех пор, как впервые открыла глаза, которое она начала любить с той минуты, как впервые раскрыла объятия, этот неистощимый источник любви, мать, это единственное существо, более дорогое сердцу, нежели все остальные существа в мире, исчезло! Ей остается смотреть всего несколько часов в ее лицо, в это неподвижное лицо, не имеющее выражения; а затем – ничего, больше ничего, одно лишь воспоминание.
Жанна рухнула на колени в ужасном порыве отчаяния и, сжимая простыни сведенными руками, прижавшись к постели ртом, кричала раздирающим голосом, который заглушали белье и одеяла:
– О мама, бедная мама, мама!