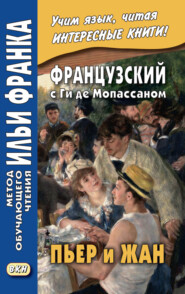По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Жизнь
Автор
Жанр
Год написания книги
1883
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И Жюльен хохотал, повторяя:
– Они заставляют нас есть хлеб любви, проказники! Настоящий рассказ Лафонтена!
Жанна после этого не могла притронуться к хлебу.
Когда почтовая карета остановилась у подъезда и за стеклом ее дверцы показалась счастливая физиономия барона, молодая женщина ощутила в душе и сердце глубокое волнение, бурный порыв любви, какого она еще никогда не испытывала.
Но, увидев матушку, она была так поражена, что едва не лишилась чувств. За эти шесть зимних месяцев баронесса постарела на десять лет. Ее огромные, одутловатые, отвисшие щеки стали багровыми, словно налившись кровью; глаза, казалось, угасли; она передвигалась, только когда ее поддерживали с обеих сторон; ее тяжелое дыхание стало свистящим и было так затруднено, что окружающие испытывали близ нее чувство мучительной стесненности.
Барон, видя ее изо дня в день, не замечал этого разрушения, а когда она жаловалась на постоянные удушья и возраставшую тучность, он говорил:
– Да нет же, дорогая, я всегда знал вас такой.
Жанна, взволнованная, растерянная, отвела родителей в их комнату и вернулась к себе, чтобы поплакать. Затем отыскала отца и бросилась к нему на грудь; глаза ее еще были полны слез.
– О, как изменилась матушка! Что с ней, скажи мне, что с ней?
Барон крайне удивился и отвечал:
– Тебе так кажется? Что за фантазия! Да нет же. Я постоянно при ней и уверяю тебя, что не нахожу ухудшения; она такая же, как всегда.
Вечером Жюльен сказал жене:
– Дела твоей матери плохи. Я думаю, конец близок.
И так как Жанна разразилась рыданиями, он вышел из себя:
– Да ну же, перестань, я ведь не говорю, что она кончается. Ты всегда все страшно преувеличиваешь. Она изменилась, вот и все, да это неудивительно в ее годы.
Через неделю Жанна уже больше не думала об этом, привыкнув к перемене в лице матери, а может быть, отгоняя опасения, как всегда отгоняют и отбрасывают грозные страхи и заботы, повинуясь какому-то эгоистическому инстинкту и естественной потребности в душевном покое.
Баронесса, не будучи в состоянии теперь ходить долго, выбиралась из дому всего на полчаса в день. Пройдя один раз по «своей» аллее, она не могла уже больше двигаться и просила, чтобы ее усадили на «ее» скамейку. А когда она не в состоянии была довести до конца прогулку, то говорила:
– Отдохнем немного; из-за гипертрофии у меня сегодня отнимаются ноги.
Она почти перестала смеяться и только чуть улыбалась тому, от чего еще в прошлом году заразительно смеялась. Но зрение оставалось у нее прекрасным, и она проводила целые дни, перечитывая «Коринну» или «Размышления» Ламартина; затем просила, чтобы ей принесли «ящик воспоминаний». И, вывалив на колени старые, дорогие ее сердцу письма, она ставила ящик возле себя на стул и укладывала обратно туда свои «реликвии», медленно перечитывая одно за другим каждое письмо. Когда же она бывала одна, совсем одна, то целовала некоторые из них, как втайне целуют волосы умерших, когда-то любимых людей.
Иногда Жанна, войдя неожиданно, заставала ее плачущей, плачущей горькими слезами.
Она восклицала:
– Что с тобой, маменька?
И баронесса, протяжно вздохнув, отвечала:
– Это виноваты мои «реликвии». Перебираешь вещи, которые были так хороши и так безвозвратно миновали! И кроме того, снова вдруг находишь уже забытых людей. Как будто еще видишь их, еще слышишь их голос, и это производит ужасное впечатление. Со временем и ты узнаешь это.
Если барон случайно появлялся в эти минуты меланхолии, он тихо говорил:
– Жанна, дорогая моя, поверь мне, сжигай все письма – и мамины, и мои, все. Ничего нет ужасней, когда мы, став стариками, начинаем перетряхивать нашу молодость.
Но Жанна также хранила свою переписку и готовила свой «ящик реликвий», повинуясь, несмотря на полное несходство с матерью, какому-то наследственному инстинкту мечтательной чувствительности.
Через несколько дней барону пришлось уехать по делу.
Погода стояла прекрасная. Тихие ночи в блеске бесчисленных звезд следовали за спокойными вечерами, ясные вечера – за лучезарными днями, лучезарные дни – за сверкающими зорями. Вскоре матушка почувствовала себя лучше, и Жанна, забыв про любовные похождения Жюльена и коварство Жильберты, ощущала себя почти совсем счастливой. Вся местность кругом цвела и благоухала, а широкое, спокойное море переливалось на солнце с утра до вечера.
Однажды после полудня Жанна взяла ребенка на руки и пошла с ним в поле. Она глядела то на сына, то на траву, пестревшую цветами вдоль дороги, и сердце ее размягчилось в беспредельном счастье. Ежеминутно она целовала Поля и страстно прижимала его к себе; иногда чудесный аромат веял на нее с лугов, и она чувствовала себя ослабевшей, растворившейся в бесконечном блаженстве. Затем она стала мечтать о будущем ребенка. Что-то из него выйдет? Иногда ей хотелось, чтобы он был великим, знаменитым, могущественным. В другой раз она предпочитала видеть его безвестным и оставшимся подле нее, преданным, нежным, всегда полным любви к матери. Когда она любила эгоистическим сердцем матери, она желала, чтобы он оставался ее сыном, только ее сыном; но когда она любила его своим страстным воображением, она честолюбиво мечтала, чтобы он стал чем-нибудь для всего мира.
Она уселась на краю канавы и принялась глядеть на него. Ей казалось, что она никогда еще его не видела. Она вдруг удивилась при мысли, что это маленькое существо станет большим, что оно будет ходить твердыми шагами, что оно обрастет бородой и станет говорить звучным голосом.
Кто-то позвал ее издали. Она подняла голову. К ней бежал Мариюс. Она подумала, что приехали гости, и встала, недовольная, что ее потревожили. Но мальчик бежал со всех ног и, приблизившись, закричал:
– Госпожа, баронессе очень плохо!
Ей показалось, что по спине у нее поползла капля холодной воды; она пошла к дому, быстро шагая, чувствуя, что ее рассудок мутится.
Уже издали увидела она толпу людей под платаном. Жанна бросилась вперед, перед ней расступились, и она увидела мать, лежащую на земле, с двумя подушками под головой. Лицо ее было совсем черное, глаза закрыты, а грудь, уже двадцать лет так тяжело дышавшая, больше не двигалась. Кормилица выхватила ребенка из рук молодой женщины и унесла его.
Жанна растерянно спрашивала:
– Что случилось? Как она упала? Бегите за доктором.
Обернувшись, она увидела кюре, каким-то образом узнавшего о происшедшем. Он предложил свои услуги и поспешно засучил рукава сутаны. Но ничего не помогало: ни уксус, ни одеколон, ни растирания.
– Нужно ее раздеть и уложить в постель, – сказал священник.
Фермер Жозеф Кульяр был здесь вместе с дядей Симоном и Людивиной. С помощью аббата Пико они хотели было отнести баронессу, но когда ее приподняли, голова мамочки запрокинулась назад, а платье, за которое они ухватились, разорвалось; тучное тело было чересчур тяжело, и держать его было трудно. Жанна закричала от ужаса. Огромное дряблое тело снова положили на землю.
Пришлось принести из гостиной кресло; посадив в него баронессу, ее смогли наконец поднять. Шаг за шагом взошли на подъезд, затем на лестницу, дошли до спальни и положили тело на постель.
Так как кухарка возилась бесконечно долго, снимая платье со своей госпожи, вдова Дантю оказалась весьма кстати; она явилась неожиданно, как и священник: они словно «почуяли смерть», по выражению прислуги.
Жозеф Кульяр помчался во весь опор за доктором, а когда аббат собрался принести миро, сиделка шепнула ему на ухо:
– Не трудитесь, господин кюре, я понимаю кое-что в этом деле: она уже отошла.
Жанна, обезумев, умоляла о помощи, не зная, что предпринять, какое употребить средство. Священник на всякий случай произнес отпущение грехов.
Почти два часа простояли все в ожидании у посиневшего, безжизненного тела. Упав на колени, Жанна рыдала, раздираемая тоской и горем.
Когда открылась дверь и вошел доктор, ей показалось, что с ним явились спасение, надежда, утешение; она бросилась к нему, несвязно передавая все, что знала о случившемся:
– Она гуляла, как всегда… чувствовала себя хорошо… даже очень хорошо… за завтраком съела бульону и два яйца… и вдруг упала… и почернела, как видите… и больше не двигалась… мы испробовали все, чтобы привести ее в чувство… все…
Она замолкла, пораженная жестом сиделки, которым та исподтишка давала понять доктору, что уже кончено, все кончено. Отказываясь верить этому жесту, Жанна тоскливо и вопрошающе повторяла:
– Это серьезно? Вы думаете, это опасно?
– Они заставляют нас есть хлеб любви, проказники! Настоящий рассказ Лафонтена!
Жанна после этого не могла притронуться к хлебу.
Когда почтовая карета остановилась у подъезда и за стеклом ее дверцы показалась счастливая физиономия барона, молодая женщина ощутила в душе и сердце глубокое волнение, бурный порыв любви, какого она еще никогда не испытывала.
Но, увидев матушку, она была так поражена, что едва не лишилась чувств. За эти шесть зимних месяцев баронесса постарела на десять лет. Ее огромные, одутловатые, отвисшие щеки стали багровыми, словно налившись кровью; глаза, казалось, угасли; она передвигалась, только когда ее поддерживали с обеих сторон; ее тяжелое дыхание стало свистящим и было так затруднено, что окружающие испытывали близ нее чувство мучительной стесненности.
Барон, видя ее изо дня в день, не замечал этого разрушения, а когда она жаловалась на постоянные удушья и возраставшую тучность, он говорил:
– Да нет же, дорогая, я всегда знал вас такой.
Жанна, взволнованная, растерянная, отвела родителей в их комнату и вернулась к себе, чтобы поплакать. Затем отыскала отца и бросилась к нему на грудь; глаза ее еще были полны слез.
– О, как изменилась матушка! Что с ней, скажи мне, что с ней?
Барон крайне удивился и отвечал:
– Тебе так кажется? Что за фантазия! Да нет же. Я постоянно при ней и уверяю тебя, что не нахожу ухудшения; она такая же, как всегда.
Вечером Жюльен сказал жене:
– Дела твоей матери плохи. Я думаю, конец близок.
И так как Жанна разразилась рыданиями, он вышел из себя:
– Да ну же, перестань, я ведь не говорю, что она кончается. Ты всегда все страшно преувеличиваешь. Она изменилась, вот и все, да это неудивительно в ее годы.
Через неделю Жанна уже больше не думала об этом, привыкнув к перемене в лице матери, а может быть, отгоняя опасения, как всегда отгоняют и отбрасывают грозные страхи и заботы, повинуясь какому-то эгоистическому инстинкту и естественной потребности в душевном покое.
Баронесса, не будучи в состоянии теперь ходить долго, выбиралась из дому всего на полчаса в день. Пройдя один раз по «своей» аллее, она не могла уже больше двигаться и просила, чтобы ее усадили на «ее» скамейку. А когда она не в состоянии была довести до конца прогулку, то говорила:
– Отдохнем немного; из-за гипертрофии у меня сегодня отнимаются ноги.
Она почти перестала смеяться и только чуть улыбалась тому, от чего еще в прошлом году заразительно смеялась. Но зрение оставалось у нее прекрасным, и она проводила целые дни, перечитывая «Коринну» или «Размышления» Ламартина; затем просила, чтобы ей принесли «ящик воспоминаний». И, вывалив на колени старые, дорогие ее сердцу письма, она ставила ящик возле себя на стул и укладывала обратно туда свои «реликвии», медленно перечитывая одно за другим каждое письмо. Когда же она бывала одна, совсем одна, то целовала некоторые из них, как втайне целуют волосы умерших, когда-то любимых людей.
Иногда Жанна, войдя неожиданно, заставала ее плачущей, плачущей горькими слезами.
Она восклицала:
– Что с тобой, маменька?
И баронесса, протяжно вздохнув, отвечала:
– Это виноваты мои «реликвии». Перебираешь вещи, которые были так хороши и так безвозвратно миновали! И кроме того, снова вдруг находишь уже забытых людей. Как будто еще видишь их, еще слышишь их голос, и это производит ужасное впечатление. Со временем и ты узнаешь это.
Если барон случайно появлялся в эти минуты меланхолии, он тихо говорил:
– Жанна, дорогая моя, поверь мне, сжигай все письма – и мамины, и мои, все. Ничего нет ужасней, когда мы, став стариками, начинаем перетряхивать нашу молодость.
Но Жанна также хранила свою переписку и готовила свой «ящик реликвий», повинуясь, несмотря на полное несходство с матерью, какому-то наследственному инстинкту мечтательной чувствительности.
Через несколько дней барону пришлось уехать по делу.
Погода стояла прекрасная. Тихие ночи в блеске бесчисленных звезд следовали за спокойными вечерами, ясные вечера – за лучезарными днями, лучезарные дни – за сверкающими зорями. Вскоре матушка почувствовала себя лучше, и Жанна, забыв про любовные похождения Жюльена и коварство Жильберты, ощущала себя почти совсем счастливой. Вся местность кругом цвела и благоухала, а широкое, спокойное море переливалось на солнце с утра до вечера.
Однажды после полудня Жанна взяла ребенка на руки и пошла с ним в поле. Она глядела то на сына, то на траву, пестревшую цветами вдоль дороги, и сердце ее размягчилось в беспредельном счастье. Ежеминутно она целовала Поля и страстно прижимала его к себе; иногда чудесный аромат веял на нее с лугов, и она чувствовала себя ослабевшей, растворившейся в бесконечном блаженстве. Затем она стала мечтать о будущем ребенка. Что-то из него выйдет? Иногда ей хотелось, чтобы он был великим, знаменитым, могущественным. В другой раз она предпочитала видеть его безвестным и оставшимся подле нее, преданным, нежным, всегда полным любви к матери. Когда она любила эгоистическим сердцем матери, она желала, чтобы он оставался ее сыном, только ее сыном; но когда она любила его своим страстным воображением, она честолюбиво мечтала, чтобы он стал чем-нибудь для всего мира.
Она уселась на краю канавы и принялась глядеть на него. Ей казалось, что она никогда еще его не видела. Она вдруг удивилась при мысли, что это маленькое существо станет большим, что оно будет ходить твердыми шагами, что оно обрастет бородой и станет говорить звучным голосом.
Кто-то позвал ее издали. Она подняла голову. К ней бежал Мариюс. Она подумала, что приехали гости, и встала, недовольная, что ее потревожили. Но мальчик бежал со всех ног и, приблизившись, закричал:
– Госпожа, баронессе очень плохо!
Ей показалось, что по спине у нее поползла капля холодной воды; она пошла к дому, быстро шагая, чувствуя, что ее рассудок мутится.
Уже издали увидела она толпу людей под платаном. Жанна бросилась вперед, перед ней расступились, и она увидела мать, лежащую на земле, с двумя подушками под головой. Лицо ее было совсем черное, глаза закрыты, а грудь, уже двадцать лет так тяжело дышавшая, больше не двигалась. Кормилица выхватила ребенка из рук молодой женщины и унесла его.
Жанна растерянно спрашивала:
– Что случилось? Как она упала? Бегите за доктором.
Обернувшись, она увидела кюре, каким-то образом узнавшего о происшедшем. Он предложил свои услуги и поспешно засучил рукава сутаны. Но ничего не помогало: ни уксус, ни одеколон, ни растирания.
– Нужно ее раздеть и уложить в постель, – сказал священник.
Фермер Жозеф Кульяр был здесь вместе с дядей Симоном и Людивиной. С помощью аббата Пико они хотели было отнести баронессу, но когда ее приподняли, голова мамочки запрокинулась назад, а платье, за которое они ухватились, разорвалось; тучное тело было чересчур тяжело, и держать его было трудно. Жанна закричала от ужаса. Огромное дряблое тело снова положили на землю.
Пришлось принести из гостиной кресло; посадив в него баронессу, ее смогли наконец поднять. Шаг за шагом взошли на подъезд, затем на лестницу, дошли до спальни и положили тело на постель.
Так как кухарка возилась бесконечно долго, снимая платье со своей госпожи, вдова Дантю оказалась весьма кстати; она явилась неожиданно, как и священник: они словно «почуяли смерть», по выражению прислуги.
Жозеф Кульяр помчался во весь опор за доктором, а когда аббат собрался принести миро, сиделка шепнула ему на ухо:
– Не трудитесь, господин кюре, я понимаю кое-что в этом деле: она уже отошла.
Жанна, обезумев, умоляла о помощи, не зная, что предпринять, какое употребить средство. Священник на всякий случай произнес отпущение грехов.
Почти два часа простояли все в ожидании у посиневшего, безжизненного тела. Упав на колени, Жанна рыдала, раздираемая тоской и горем.
Когда открылась дверь и вошел доктор, ей показалось, что с ним явились спасение, надежда, утешение; она бросилась к нему, несвязно передавая все, что знала о случившемся:
– Она гуляла, как всегда… чувствовала себя хорошо… даже очень хорошо… за завтраком съела бульону и два яйца… и вдруг упала… и почернела, как видите… и больше не двигалась… мы испробовали все, чтобы привести ее в чувство… все…
Она замолкла, пораженная жестом сиделки, которым та исподтишка давала понять доктору, что уже кончено, все кончено. Отказываясь верить этому жесту, Жанна тоскливо и вопрошающе повторяла:
– Это серьезно? Вы думаете, это опасно?