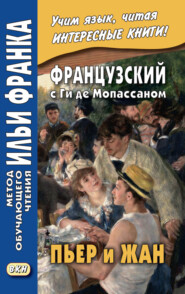По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Жизнь
Автор
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Все это было из-за девушки, Паулины Синакупи, за которой оба они ухаживали.
Но Жан крикнул:
– Я пойду туда, Матье; не ты мне помешаешь!
Тогда Матье прицелился, прежде чем я успел схватиться за свое ружье, и выстрелил.
Жан высоко подпрыгнул, словно ребенок, скачущий через веревочку, – именно так, сударь, – и грохнулся на меня всем телом, так что ружье выскочило у меня из рук и отлетело вон к тому каштану.
Рот у Жана был открыт, но он так и не произнес ни слова; он был мертв».
Молодые люди смотрели, пораженные, на спокойного свидетеля преступления.
Жанна спросила:
– А убийца?
Паоли Палабретти долго кашлял, затем сказал:
– Он скрылся в горы. Мой брат убил его в следующем году. Знаете, мой брат, Филипп Палабретти, – разбойник.
Жанна вздрогнула:
– Ваш брат – разбойник?
У невозмутимого корсиканца блеснула в глазах гордость.
– Да, сударыня, он был знаменитый разбойник. Он уложил шестерых жандармов. Он погиб вместе с Никола Морали после шестидневной схватки, когда их окружили в Ниоло и когда им грозила голодная смерть.
И он прибавил: «Таков обычай в нашей стране», – тем же тоном, каким говорил: «Воздух с Вале холодный».
Они вернулись к обеду, и маленькая корсиканка обращалась с ними так, словно знала их уже лет двадцать.
Но беспокойство не покидало Жанну. Испытает ли она еще раз в объятиях Жюльена то странное и бурное потрясение чувств, которое она ощутила на мху у ручья?
Когда они оказались одни в комнате, ее охватила боязнь остаться бесчувственной под его поцелуями. Но она быстро уверилась в противном, и то была ее первая ночь любви.
На следующий день, когда настал час отъезда, она долго не решалась покинуть этот скромный домик, где для нее, казалось ей, началась новая, счастливая, жизнь.
Она зазвала в свою комнату маленькую жену хозяина и, уверяя, что вовсе не хочет ей делать подарка, в то же время настояла, даже досадуя на самое себя, что пришлет ей из Парижа после возвращения что-нибудь на память; этому подарку она придавала какое-то особое, почти суеверное значение.
Молодая корсиканка долго противилась, не желая ничего получать. Наконец согласилась.
– Хорошо, – сказала она, – тогда пришлите мне маленький пистолет, совсем маленький.
Жанна широко раскрыла глаза. А та тихонько шепнула ей на ухо, будто доверяя дорогую и сокровенную тайну:
– Чтобы убить деверя.
Смеясь, она быстро смотала с руки, которую носила на перевязи, покрывавшие ее повязки; Жанна увидела на пухлом и белом теле сквозную рану, нанесенную ударом стилета и уже почти зарубцевавшуюся.
– Не будь я такой же сильной, как он, – сказала она, – он убил бы меня. Мой муж не ревнив и знает меня; кроме того, он болен, как вам известно, а это смиряет ему кровь. Впрочем, я честная женщина, сударыня; но деверь слушает все, что ему болтают. Он ревнует меня вместо мужа и, наверно, начнет снова. Когда у меня будет пистолет, я буду спокойна и уверенна, зная, что смогу отомстить.
Жанна пообещала прислать оружие и, нежно обняв свою новую приятельницу, отправилась в дорогу.
Конец путешествия был для нее сплошным сном, бесконечным объятием, пьянящею лаской. Она ничего не видела – ни пейзажей, ни людей, ни мест, где они останавливались. Она смотрела только на Жюльена.
Тогда между ними возникла детская, восхитительная интимность, полная любовных дурачеств, глупых и очаровательных словечек, нежных прозвищ каждого изгиба и контура, каждой складочки на их теле, которыми наслаждались их уста.
Жанна спала обычно на правом боку, и ее левая грудь при пробуждении часто оказывалась не покрытой одеялом. Жюльен, заметив это, прозвал ее «беглянкой», а другую прозвал «неженкой» за то, что розовый ее кончик казался более чувствительным к поцелуям.
Глубокая дорожка между ними стала «мамочкиной аллеей», потому что он беспрестанно по ней прогуливался; другая дорожка, более сокровенная, была прозвана «путем в Дамаск» в память о долине Ота.
По приезде в Бастиа надо было расплатиться с проводником. Жюльен пошарил у себя в карманах. Не находя того, что ему было нужно, он обратился к Жанне:
– Раз ты совсем не пользуешься двумя тысячами твоей матери, давай я буду их носить. У меня за поясом они в большей безопасности; кроме того, это избавит меня от размена денег.
Она протянула ему кошелек.
Они приехали в Ливорно, побывали во Флоренции, в Генуе, на всем побережье.
Однажды утром, когда дул мистраль, они снова очутились в Марселе.
Прошло два месяца со времени их отъезда из «Тополей». Было 15 октября.
Под впечатлением холодного ветра, который дул, казалось, из далекой Нормандии, Жанну охватила грусть. Жюльен с некоторых пор словно изменился; он был усталый, безразличный, и она боялась, сама не зная чего.
Еще на четыре дня отложила она отъезд домой, не решаясь покинуть эту прекрасную солнечную страну. Ей казалось, что она завершила круг своего счастья. Наконец они уехали.
В Париже они должны были купить все необходимое для окончательного устройства в «Тополях», и Жанна радовалась при мысли о чудесных вещах, которые привезет с собой благодаря подарку мамочки; но первое, о чем она подумала, был пистолет, обещанный молодой корсиканке из Эвиза.
На другой день после приезда она сказала Жюльену:
– Милый, дай мне мамины деньги, я хочу сделать кое-какие покупки.
Он обернулся к ней с недовольным лицом:
– Сколько тебе нужно?
Пораженная, она пролепетала:
– Да… сколько хочешь.
Он ответил:
– Вот тебе сто франков – только не транжирь их.
Она не знала, что сказать, чувствуя себя растерянной и сконфуженной.