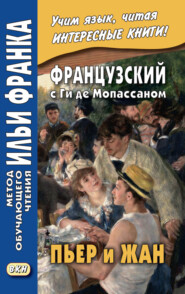По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лучшие новеллы (сборник)
Автор
Жанр
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Некоторое время тянулось это томительное молчание. Затем Берта сказала:
– Подбросьте в камин полено, мой друг, видите, он гаснет.
Я открыл ящик для дров – он стоял совершенно как у вас, – достал полено, самое толстое полено, и поставил его стоймя на другие поленья, почти уже сгоревшие.
Молчание возобновилось.
Через несколько минут полено запылало так сильно, что жар стал жечь нам лица. Молодая женщина взглянула на меня, и выражение ее глаз показалось мне каким-то особенным.
– Теперь здесь чересчур жарко, – сказала она, – перейдемте туда, на диван.
И вот мы сели на диван.
Вдруг, глядя мне прямо в глаза, она спросила:
– Что бы вы сделали, если бы женщина сказала вам, что она вас любит?
Совершенно опешив, я ответил:
– Право, это случай непредвиденный, а затем все зависело бы от того, какова эта женщина.
Она засмеялась сухим, нервным, дрожащим смехом, тем фальшивым смехом, от которого, кажется, должно разбиться тонкое стекло, и прибавила:
– Мужчины никогда не бывают ни смелыми, ни хитрыми.
Помолчав, она спросила снова:
– Вы когда-нибудь бывали влюблены, господин Поль?
Я признался, что бывал влюблен.
– Расскажите, как это было, – попросила она.
Я рассказал ей какую-то историю. Она слушала внимательно, то и дело выражая неодобрение и презрение, и вдруг сказала:
– Нет, вы ничего не понимаете в любви. Чтобы любовь была настоящей, она, по-моему, должна перевернуть сердце, мучительно скрутить нервы, опустошить мозг, она должна быть – как бы выразиться? – полна опасностей, даже ужасна, почти преступна, почти святотатственна; она должна быть чем-то вроде предательства; я хочу сказать, что она должна попирать священные преграды, законы, братские узы; когда любовь покойна, лишена опасностей, законна, разве это настоящая любовь?
Я не знал, что отвечать, а про себя философски воскликнул: «О, женская душа, ты вся здесь!»
Говоря все это, она напустила на себя лицемерный вид равнодушной недотроги и, откинувшись на подушки, вытянулась и легла, положив мне на плечо голову, так что платье немного приподнялось, позволяя видеть красный шелковый чулок, вспыхивавший по временам в отблесках камина.
Немного погодя она сказала:
– Я вам внушаю страх?
Я протестовал. Она совсем оперлась о мою грудь и, не глядя на меня, произнесла:
– А если бы я вам сказала, что люблю вас, что бы вы тогда сделали?
И не успел я ответить, как ее руки охватили мою шею, притянули мою голову и губы ее прижались к моим губам.
Ах, моя дорогая, ручаюсь вам, что в ту минуту мне было далеко не весело! Как, обманывать Жюльена? Сделаться любовником этой маленькой, испорченной и хитрой распутницы, без сомнения, страшно чувственной, которой уже недостаточно мужа? Беспрестанно изменять, всегда обманывать, играть в любовь единственно ради прелести запретного плода, ради бравирования опасностью, ради поругания дружбы! Нет, это мне совершенно не подходило. Но что делать? Уподобиться Иосифу? Глупейшая и вдобавок очень трудная роль, потому что эта женщина обезумела в своем вероломстве, горела отвагой, трепетала от страсти и неистовства. О, пусть тот, кто никогда не чувствовал на своих губах глубокого поцелуя женщины, готовой отдаться, бросит в меня первый камень!..
…Словом, еще минута… вы понимаете, не так ли… еще минута, и… я бы… то есть она бы… Виноват, это случилось бы, или, вернее, должно было бы случиться, как вдруг страшный шум заставил нас вскочить на ноги.
Горящее полено, да, сударыня, полено ринулось из камина, опрокинув лопатку и каминную решетку, покатилось, как огненный ураган, подожгло ковер и упало под кресло, которое неминуемо должно было загореться.
Я бросился, как безумный, а пока водворял в камин спасительную головню, дверь внезапно отворилась. Вошел Жюльен, весь сияя.
– Я свободен! – воскликнул он. – Дело кончилось двумя часами раньше!
Да, мой друг, если бы не это полено, я был бы застигнут на месте преступления. Можете представить себе последствия!
Понятно, я принял меры, чтобы никогда больше не попадать в такое положение, никогда, никогда! Затем я заметил, что Жюльен становится ко мне холоден. Жена, очевидно, подкапывалась под нашу дружбу; мало-помалу он отдалил меня от себя, и мы перестали видеться.
Я не женился. Теперь это не должно вас удивлять.
Сумасшедший?
Сумасшедший ли я? Или только ревную? Не знаю, но я страдал жестоко. Я совершил безумный поступок, акт яростного безумия. Это так; но душившая меня ревность, но восторженная, преданная и поруганная любовь, но отвратительная боль, которую я испытываю, – разве всего этого не достаточно, чтобы побудить нас совершать преступления и безумства, хотя бы мы и не были на самом деле преступниками ни сердцем, ни умом?
О, я страдал, страдал, страдал – долго, мучительно, ужасно. Я любил эту женщину с неистовой страстью… И, однако, верно ли это? Любил ли я ее? Нет, нет, нет! Она овладела моей душой и телом, захватила меня, связала. Я был и остался ее вещью, ее игрушкой. Я принадлежу ее улыбке, ее губам, ее взгляду, линиям ее тела, овалу ее лица; я задыхаюсь под игом ее внешности, но она, обладательница этой внешности, душа этого тела, мне ненавистна, гнусна, и я всегда ее ненавидел, презирал и гнушался ею. Потому что она вероломна, похотлива, нечиста, порочна; она женщина погибели, чувственное и лживое животное, у которого нет души, у которого никогда нет мысли, подобной вольному, животворящему воздуху; она человек-зверь и хуже того: она лишь утроба, чудо нежной и округлой плоти, в котором живет Бесчестие.
Первое время нашей связи было странно и упоительно. В ее вечно раскрытых объятиях я исходил яростью ненасытного желания. Ее глаза, как бы вызывая во мне жажду, заставляли меня раскрывать рот. В полдень они были серые, в сумерки – зеленоватые и на восходе солнца – голубые. Я не безумец: клянусь, что у них были эти три цвета.
В часы любви они были синие, изнемогающие, с расширенными зрачками. Из ее судорожно трепетавших губ высовывался порою розовый, влажный кончик языка, дрожавший, как жало змеи, а ее тяжелые веки медленно поднимались, открывая жгучий и замирающий взгляд, сводивший меня с ума.
Сжимая ее в объятиях, я вглядывался в ее глаза и дрожал, томясь желанием убить этого зверя и необходимостью обладать ею непрерывно.
Когда она ходила по моей комнате, то каждый ее шаг потрясал мое сердце, а когда она начинала раздеваться, сбрасывала платье и появлялась, бесстыдная и сияющая, из волн белья, падавшего у ее ног, я ощущал во всех членах, в руках и ногах, в тяжко дышавшей груди, бесконечную и подлую порабощенность.
В один прекрасный день я увидел, что она пресытилась мною. Я заметил это по ее глазам при пробуждении. Склонившись над нею, я каждое утро с нетерпением ждал ее первого взгляда. Я ожидал его, полный злобы, ненависти, презрения к этому спящему зверю, невольником которого я был. Но когда показывалась бледная лазурь ее зрачков, льющаяся, как вода, еще томная, еще усталая, еще измученная от недавних ласк, во мне мгновенно вспыхивало пламя, безудержно обостряя мой пыл. В этот же день, когда она раскрыла глаза, из-под ресниц на меня глянул угрюмый и безразличный взгляд, и в нем больше не было желания.
О, я увидел, почувствовал, узнал, тотчас же понял этот взгляд! Все было кончено, кончено навсегда. И доказательства этого попадались мне каждый час, каждое мгновение.
Когда я призывал ее объятиями и губами, она скучающе отворачивалась, шепча: «Оставьте же меня!» или: «Вы мне противны!» или: «Неужели мне никогда не будет покоя!»
Тогда я стал ревнивым. Но ревнивым, как собака, хитрым, недоверчивым, скрытным. Я отлично знал, что она скоро опять возьмется за старое, что на смену мне явится другой и зажжет ее чувства.
Я ревновал бешено; но я не сошел с ума, нет, конечно, нет.
Я ждал; о, я шпионил за нею, она не обманула бы меня; но она по-прежнему была холодная, сонливая. Порою она говорила: «Мужчины внушают мне отвращение». И это была правда.
Тогда я стал ее ревновать к ней самой; ревновать к ее безразличию, ревновать к одиночеству ее ночей; ревновать к ее жестам, к ее мыслям, которые всегда казались мне бесчестными, ревновать ко всему, о чем я догадывался. И когда я порой замечал у нее по утрам тот влажный взор, который бывал когда-то после наших пылких ночей, словно какое-то вожделение опять всколыхнуло ее душу и возбудило ее желания, я задыхался от гнева, дрожал от негодования, от неутолимой жажды задушить ее, придавить коленом и, сдавливая ей горло, заставить покаяться во всех постыдных тайнах ее души.
Сумасшедший ли я? Нет.
Но вот однажды вечером я почувствовал, что она счастлива. Я почувствовал, что какая-то новая страсть трепетала в ней. Я был в этом уверен, непоколебимо уверен. Она вздрагивала, как после моих объятий; ее глаза горели, руки были горячие, от всего ее трепетавшего тела исходил тот любовный хмель, который доводил меня до безумия.
– Подбросьте в камин полено, мой друг, видите, он гаснет.
Я открыл ящик для дров – он стоял совершенно как у вас, – достал полено, самое толстое полено, и поставил его стоймя на другие поленья, почти уже сгоревшие.
Молчание возобновилось.
Через несколько минут полено запылало так сильно, что жар стал жечь нам лица. Молодая женщина взглянула на меня, и выражение ее глаз показалось мне каким-то особенным.
– Теперь здесь чересчур жарко, – сказала она, – перейдемте туда, на диван.
И вот мы сели на диван.
Вдруг, глядя мне прямо в глаза, она спросила:
– Что бы вы сделали, если бы женщина сказала вам, что она вас любит?
Совершенно опешив, я ответил:
– Право, это случай непредвиденный, а затем все зависело бы от того, какова эта женщина.
Она засмеялась сухим, нервным, дрожащим смехом, тем фальшивым смехом, от которого, кажется, должно разбиться тонкое стекло, и прибавила:
– Мужчины никогда не бывают ни смелыми, ни хитрыми.
Помолчав, она спросила снова:
– Вы когда-нибудь бывали влюблены, господин Поль?
Я признался, что бывал влюблен.
– Расскажите, как это было, – попросила она.
Я рассказал ей какую-то историю. Она слушала внимательно, то и дело выражая неодобрение и презрение, и вдруг сказала:
– Нет, вы ничего не понимаете в любви. Чтобы любовь была настоящей, она, по-моему, должна перевернуть сердце, мучительно скрутить нервы, опустошить мозг, она должна быть – как бы выразиться? – полна опасностей, даже ужасна, почти преступна, почти святотатственна; она должна быть чем-то вроде предательства; я хочу сказать, что она должна попирать священные преграды, законы, братские узы; когда любовь покойна, лишена опасностей, законна, разве это настоящая любовь?
Я не знал, что отвечать, а про себя философски воскликнул: «О, женская душа, ты вся здесь!»
Говоря все это, она напустила на себя лицемерный вид равнодушной недотроги и, откинувшись на подушки, вытянулась и легла, положив мне на плечо голову, так что платье немного приподнялось, позволяя видеть красный шелковый чулок, вспыхивавший по временам в отблесках камина.
Немного погодя она сказала:
– Я вам внушаю страх?
Я протестовал. Она совсем оперлась о мою грудь и, не глядя на меня, произнесла:
– А если бы я вам сказала, что люблю вас, что бы вы тогда сделали?
И не успел я ответить, как ее руки охватили мою шею, притянули мою голову и губы ее прижались к моим губам.
Ах, моя дорогая, ручаюсь вам, что в ту минуту мне было далеко не весело! Как, обманывать Жюльена? Сделаться любовником этой маленькой, испорченной и хитрой распутницы, без сомнения, страшно чувственной, которой уже недостаточно мужа? Беспрестанно изменять, всегда обманывать, играть в любовь единственно ради прелести запретного плода, ради бравирования опасностью, ради поругания дружбы! Нет, это мне совершенно не подходило. Но что делать? Уподобиться Иосифу? Глупейшая и вдобавок очень трудная роль, потому что эта женщина обезумела в своем вероломстве, горела отвагой, трепетала от страсти и неистовства. О, пусть тот, кто никогда не чувствовал на своих губах глубокого поцелуя женщины, готовой отдаться, бросит в меня первый камень!..
…Словом, еще минута… вы понимаете, не так ли… еще минута, и… я бы… то есть она бы… Виноват, это случилось бы, или, вернее, должно было бы случиться, как вдруг страшный шум заставил нас вскочить на ноги.
Горящее полено, да, сударыня, полено ринулось из камина, опрокинув лопатку и каминную решетку, покатилось, как огненный ураган, подожгло ковер и упало под кресло, которое неминуемо должно было загореться.
Я бросился, как безумный, а пока водворял в камин спасительную головню, дверь внезапно отворилась. Вошел Жюльен, весь сияя.
– Я свободен! – воскликнул он. – Дело кончилось двумя часами раньше!
Да, мой друг, если бы не это полено, я был бы застигнут на месте преступления. Можете представить себе последствия!
Понятно, я принял меры, чтобы никогда больше не попадать в такое положение, никогда, никогда! Затем я заметил, что Жюльен становится ко мне холоден. Жена, очевидно, подкапывалась под нашу дружбу; мало-помалу он отдалил меня от себя, и мы перестали видеться.
Я не женился. Теперь это не должно вас удивлять.
Сумасшедший?
Сумасшедший ли я? Или только ревную? Не знаю, но я страдал жестоко. Я совершил безумный поступок, акт яростного безумия. Это так; но душившая меня ревность, но восторженная, преданная и поруганная любовь, но отвратительная боль, которую я испытываю, – разве всего этого не достаточно, чтобы побудить нас совершать преступления и безумства, хотя бы мы и не были на самом деле преступниками ни сердцем, ни умом?
О, я страдал, страдал, страдал – долго, мучительно, ужасно. Я любил эту женщину с неистовой страстью… И, однако, верно ли это? Любил ли я ее? Нет, нет, нет! Она овладела моей душой и телом, захватила меня, связала. Я был и остался ее вещью, ее игрушкой. Я принадлежу ее улыбке, ее губам, ее взгляду, линиям ее тела, овалу ее лица; я задыхаюсь под игом ее внешности, но она, обладательница этой внешности, душа этого тела, мне ненавистна, гнусна, и я всегда ее ненавидел, презирал и гнушался ею. Потому что она вероломна, похотлива, нечиста, порочна; она женщина погибели, чувственное и лживое животное, у которого нет души, у которого никогда нет мысли, подобной вольному, животворящему воздуху; она человек-зверь и хуже того: она лишь утроба, чудо нежной и округлой плоти, в котором живет Бесчестие.
Первое время нашей связи было странно и упоительно. В ее вечно раскрытых объятиях я исходил яростью ненасытного желания. Ее глаза, как бы вызывая во мне жажду, заставляли меня раскрывать рот. В полдень они были серые, в сумерки – зеленоватые и на восходе солнца – голубые. Я не безумец: клянусь, что у них были эти три цвета.
В часы любви они были синие, изнемогающие, с расширенными зрачками. Из ее судорожно трепетавших губ высовывался порою розовый, влажный кончик языка, дрожавший, как жало змеи, а ее тяжелые веки медленно поднимались, открывая жгучий и замирающий взгляд, сводивший меня с ума.
Сжимая ее в объятиях, я вглядывался в ее глаза и дрожал, томясь желанием убить этого зверя и необходимостью обладать ею непрерывно.
Когда она ходила по моей комнате, то каждый ее шаг потрясал мое сердце, а когда она начинала раздеваться, сбрасывала платье и появлялась, бесстыдная и сияющая, из волн белья, падавшего у ее ног, я ощущал во всех членах, в руках и ногах, в тяжко дышавшей груди, бесконечную и подлую порабощенность.
В один прекрасный день я увидел, что она пресытилась мною. Я заметил это по ее глазам при пробуждении. Склонившись над нею, я каждое утро с нетерпением ждал ее первого взгляда. Я ожидал его, полный злобы, ненависти, презрения к этому спящему зверю, невольником которого я был. Но когда показывалась бледная лазурь ее зрачков, льющаяся, как вода, еще томная, еще усталая, еще измученная от недавних ласк, во мне мгновенно вспыхивало пламя, безудержно обостряя мой пыл. В этот же день, когда она раскрыла глаза, из-под ресниц на меня глянул угрюмый и безразличный взгляд, и в нем больше не было желания.
О, я увидел, почувствовал, узнал, тотчас же понял этот взгляд! Все было кончено, кончено навсегда. И доказательства этого попадались мне каждый час, каждое мгновение.
Когда я призывал ее объятиями и губами, она скучающе отворачивалась, шепча: «Оставьте же меня!» или: «Вы мне противны!» или: «Неужели мне никогда не будет покоя!»
Тогда я стал ревнивым. Но ревнивым, как собака, хитрым, недоверчивым, скрытным. Я отлично знал, что она скоро опять возьмется за старое, что на смену мне явится другой и зажжет ее чувства.
Я ревновал бешено; но я не сошел с ума, нет, конечно, нет.
Я ждал; о, я шпионил за нею, она не обманула бы меня; но она по-прежнему была холодная, сонливая. Порою она говорила: «Мужчины внушают мне отвращение». И это была правда.
Тогда я стал ее ревновать к ней самой; ревновать к ее безразличию, ревновать к одиночеству ее ночей; ревновать к ее жестам, к ее мыслям, которые всегда казались мне бесчестными, ревновать ко всему, о чем я догадывался. И когда я порой замечал у нее по утрам тот влажный взор, который бывал когда-то после наших пылких ночей, словно какое-то вожделение опять всколыхнуло ее душу и возбудило ее желания, я задыхался от гнева, дрожал от негодования, от неутолимой жажды задушить ее, придавить коленом и, сдавливая ей горло, заставить покаяться во всех постыдных тайнах ее души.
Сумасшедший ли я? Нет.
Но вот однажды вечером я почувствовал, что она счастлива. Я почувствовал, что какая-то новая страсть трепетала в ней. Я был в этом уверен, непоколебимо уверен. Она вздрагивала, как после моих объятий; ее глаза горели, руки были горячие, от всего ее трепетавшего тела исходил тот любовный хмель, который доводил меня до безумия.