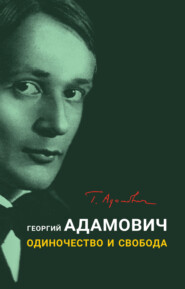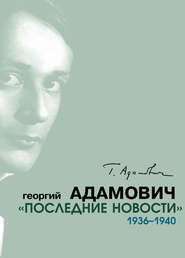По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
«Последние новости». 1934–1935
Жанр
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Маша ворчит, но в глубине души довольна: «он – легкий, живой, свободный, счастливый, новый». «Ты чудовище, но я тебя обожаю», – признается она. Настроение ее, однако, портится, когда «девушка» является на квартиру к Завьялову. Маша закатывает классическую сцену ревности. Таня, «девушка», убегает. Завьялов уходит за ней, ибо дома ему «душно»: его манит дорога цветов. Маша плачет и ломает руки. Теща ей поддакивает: «ушел – и, главное, без калош». На этом восклицании кончается первое действие, – блестящий образец драматической «экспозиции», в которой несколькими словами обрисованы все герои и показаны все нити фабульного клубка.
Далее – Завьялов у Тани. Здесь разыгрывается нечто вроде советского варианта ибсеновской «Норы». Таня растратила общественные деньги, собранные на заводе для приобретения мануфактуры. Растрату она совершила ради Завьялова. Ей грозит суд, позор. У Завьялова деньги есть, но Танина беда его не трогает. Ему даже чудится шантаж. Ему «душно» и у нее. Дорога цветов привела его не туда, куда следовало. По счастью, появляется на его пути Вера Разгольдер, советская барыня нэповского толка, «пикантная и прелестно одетая». Завьялов уходит к ней.
Счастье. Единение двух близких, родственных душ. Вера по телефону сообщает своей подруге:
– Он новый до мозга костей, смелый, солнечный, такой современный, современный. В нем ничего мещанского, ничего банального… Я сошла с ума. Ничего не соображаю. С первого взгляда. Я даже думаю, у меня повышенная температура.
Завьялов с Верой собираются в Крым. Но в самую последнюю минуту поездка расстраивается. Обе «новые» личности бранятся так, как не часто бранились и в прогнившем старом быту. Причина раздора – опять финансовая. Завьялов решает вернуться к Маше. Но Маша уже забыла его и вышла замуж за давнего приятеля-доктора. Завьялов бросается к Тане, но и Таня узнала ему цену. Завьялов остается один. В довершение несчастий в «Правде» появляется громоподобная статья, в которой его, любимца масс, пророка будущего человека, величают «пошляком у микрофона». Завьялов подавлен. Перед ним нет больше не только дороги цветов, но и вообще никакой дороги.
Я назвал случай, положенный Катаевым в основание пьесы, трагикомическим. Действительно, несмотря на шутливый и сатирический тон автора, заключительная сцена комедии звучит грустно, – может быть, вопреки воле Катаева. Его герой глуп и пошловат, – но при этом беззаботен. Возмездия он не понимает, он его не ждет, оно ему представляется глубокой, незаслуженной обидой, – и для того, чтобы «Дорога цветов» была бы пьесой совсем веселой, Катаев в образе Завьялова чего-то не дочернил, не дорисовал. Оправданием ему, впрочем, служит то, что замысел комедии не столько психологический, сколько бытовой. Комедия в развитии своем не идет в глубину, растекается по поверхности. С этой точки зрения она крайне любопытна. Катаев один из тех авторов, которые не только показывают нам советскую жизнь, будто картинку в книжке, а вводят в самую толщу ее, позволяют ее послушать, понюхать, потрогать руками.
Наши здешние русские театры нередко жалуются на отсутствие советских пьес, которые могли бы заинтересовать зрителя-эмигранта, не утомляя и не оскорбляя его. Будто бы ничего нет подходящего: – то сплошная пропаганда, то диалоги о нормах выполнения посевного плана… На «Дорогу цветов» следовало бы обратить внимание. Она, право, стоит пресловутого «Чужого ребенка».
* * *
Короткий рассказ – форма трудная и в современной русской литературе мало распространенная. Из советских беллетристов, кроме Бабеля и Зощенко, никто коротких рассказов в сто или полтораста строк не пишет. В самое последнее время к ним пристрастился Пильняк – и, судя по первым опытам, они ему удаются много лучше, чем пухлые, многословные романы с лирическими отступлениями и туманными размышлениями о самом себе, о революции, о метелях и проблематической связи этих метелей с ленинизмом-сталинизмом.
Рассказы могли бы быть вполне хороши. Беда только в том, что от революционных вихрей, ленинизма и самого себя Пильняку редко удается отделаться, и чуть ли не в каждый рассказ, своеобразно задуманный, отлично начатый, он, в конце концов, эту «ложку дегтя» вливает. А иногда с дегтя он и начинает, что приводит к результатам совсем печальным. Нельзя, все-таки, отрицать, что десять или двенадцать рассказов, напечатанных Пильняком в последнее время (главным образом, в «Новом мире», – книги 3 и 4) – явление в советской литературе заметное и значительное. Если бы только не деготь.
Например, «Мастера». Какой бы это мог быть чудесный рассказ, полный смысла в своем лаконизме. Но «влил» в него Пильняк не ложку благоуханной жидкости, а добрых полведра. У художника Гузикова, безнадежно больного человека, стоит в мастерской старый рояль, работа мастера Майбома, славившегося в начале прошлого века. Рояль разбит, грязен, заброшен. После смерти владельца он попадает к его молодому приятелю – и тот хочет реставрировать инструмент. Старик-немец любовно осматривает рояль:
– Адольф Майбом… Майстэр натшало прошлий век. Адольф Майбом биль утшитель моего утшителя Карла Бернса… Скрябин не будет звутшать на этот фортепиано, сто лет назад биль не такой звук, как есть сейтшас. Но великий Бетховен! Хорошо, я сделаю этот инструмент, он будет звутшать, как он звутшал сто лет назад… Адольф Майбом, он умер в пятьдесят третий год прошлий столетий, он биль утшитель моего утшителя… Инструмент будет жить.
Но немцу не приходится исполнить свою мечту. Ему восемьдесят четыре года: он умирает, не успев приступить к работе. Приходят другие мастера:
– Не-ет-с, починить невозможно. И нет смысла. Купите новый инструмент… А материал – дерево – хорош. Сделайте шкаф, либо стол, либо диван. Материалу много.
Наконец один из них соглашается оживить рояль. «Я сделаю так, как сделал бы Иоганн Августович. Я сделаю это в память Иоганна Августовича». Но знаете ли откуда у молодого мастера такое рвение, откуда у него такой пиетет к памяти скончавшегося немца? Дело в том, что Иоганн Августович был членом коммунистической партии. Притом – с 1903 года. И об этом молчал. «Великой скромности был человек». Как же в самом деле не расчувствоваться?
В одних только рассказах о животных Пильняк поневоле освобождается от демонстрирований политической благонадежности. Они и удачнейшие из всех.
В «Собачьей судьбе» полторы страницы. Собака ощенилась. У нее отняли одного щенка, а на следующий день вернули – так как щенок был слишком мал и еще не мог есть. Собака злобно обнюхала сына и оскалила зубы. Как ни бились хозяева, она узнавала его среди других щенят – и, в конце концов, растерзала. Хозяйка расплакалась. «Глаза собаки стали умными, грустными и виноватыми». Только и всего, но в этой случайной, ни на какую особую художественность не претендующей, заметке больше проникновения в настоящую жизнь, и больше понимания ее, чем в домыслах о людях, которым Пильняк механически навязывает механические соображения и чувства. Не хуже и второй «собачий» рассказ – «Товарищи по промыслу».
Породистый пес Глан презрительно косится на дворняжку Машку. Он всегда сыт, он неразлучен с охотником-хозяином, а она, Машка, и зимой и летом побирается по чужим дворам. На беду хозяин уезжает. Глан в это время был в бегах и, вернувшись, нашел дом заколоченным. Начинается новая жизнь: приходится ему промышлять в компании с Машкой.
Я передаю содержание этих рассказов вовсе не потому, что думаю, будто бы в передаче может сохраниться их прелесть. Нет, цель у меня другая: дать понятие об их простоте. Со временем может оказаться, что именно по ним будут судить и ценить Пильняка, а вовсе не по «Голому году» или «Волге, впадающей в Каспийское море».
<«Похищение Европы» К. Федина>
Новый роман Федина – писателя добросовестного и вдумчивого – крайне характерен для того пути, который проделала советская литература, и того состояния, в котором она теперь находится.
Можно по разному объяснять эту печальную «эволюцию». Можно придумать разные формы для нее и исписать десятки страниц в ее исполнение. Сущность, однако, останется та же самая: «укатали сивку крутые горки», – как выразился однажды Луначарский о Гете. Для того, чтобы вполне ясно отдать себе отчет в размерах «укатания», лучше всего вспомнить, что началом советской литературы была блоковская поэма «Двенадцать»… С тех пор не так уже много прожито, но пережито много. Круг все суживался, потом все мельчал, – и вот, наконец, перед нами скудные и скучные плоды словесности, окончательно «прибранной к рукам» и сведенной к более или менее искусной разработке единого, общеобязательного замысла. Было время, когда в советской литературе чувствовалась возможность какого-то грубоватого, но подлинного величия. Казалось, еще одно усилие – и литература эта вырвется к простору личных ответов на сомнения, вопросы и надежды эпохи. Если ей и не доставало зрелости, то не хотелось думать, что развитие ее пойдет параллельно с постепенным отказом от всего ее творческого содержания.
Надо оговориться: я вовсе не поклонник «революционных бурь и мятежей», воспетых когда-то Пильняком, или малограмотного энтузиазма, которым проникнут гладковский «Цемент», или планетарных вдохновений пролеткультовской поэзии. Скажу больше: мне и блоковские «Двенадцать» теперь, на расстоянии пятнадцати лет, представляются вещью поверхностно-значительной, обманчиво-глубокой и очень показательной для того душевного омертвения, которое сам Блок с гениальной выразительностью запечатлел в стихах «Седого утра»: «пробудился – тридцать лет, хвать похвать – а сердца нет». («Горький пустячок» – верно и метко тогда же сказал о «Двенадцати» критик злой, бессовестный и беспринципный, но умный: Сергей Бобров.) Но этот пафос можно было понять, и в искренность его можно было верить. Литература могла и не нравиться, но то, что было за ней, достойно было внимания, – и во всяком случае могло оказаться двигателем литературы настоящей и живой. Человек и мир стояли друг перед другом, – и человек пытался найти слова, в которых этот внезапно «взвихренный», исказившийся, возмутившийся мир был бы отражен… В первое время ему в этом деле оставляли свободу. Правителям России было не до того, чтобы заниматься «пишущей братией». Конечно, уже и тогда на партийных верхах признавалось, что это тоже «фронт», но были в те годы фронты и поважнее, – и литература находилась в положении беспризорном, что и шло ей на пользу. Потом фронты сократились, началось «строительство», появился «план» – и мало-помалу в этот план была включена и литература. Подчеркиваю: мало-помалу. Едва ли у партии не хватило решительности, чтобы сразу превратить литературу в покорную исполнительницу правительственного предначертания: вернее, партия сама не сразу догадалась, что это возможно, что это «пройдет» – и на первых порах поэтому с известной терпимостью отнеслась к разговорам о творческой свободе и о праве писателя на мысль. Изменение отношения сказалось с полной резкостью только вместе с исчезновением старых, еще «интеллигентских» традиций и водворения на их место новейших казарменных принципов. То, что трудно назвать иначе как ликвидацией литературы, началось с отставкой Луначарского. Еще несколько лет тому назад можно было с уверенностью утверждать, что литература в России жива, – и надеяться, что она не задохнется и в будущем. Сейчас никто не решится на такое утверждение, иначе как с какими-либо предвзятыми посторонними целями. Если это не смерть, то это – глубокий обморок, летаргический сон.
Тем этих мне не раз уже приходилось касаться, – и я не буду повторять всего того, о чем уже писал. В двух словах, самое существенное: жесточайшая сверх-бенкендорфовская цензура не может «доканать» литературы, пока остается именно цензурой, – т. е. органом запретительным, ограничивающим. Но сразу она становится смертоносной, едва только от ограничения переходит к внушению. А в России именно это и произошло. Писателю уже не говорят: «не пиши об этом», ему велят: «пиши о том то…». С точки зрения плана, проникающего во все отрасли жизни и все регулирующего, это логично и последовательно: в едином механизме не должно быть ни одного винтика или колесика, вертящегося самостоятельно, без всякой связи с другими винтиками и колесиками. При стремлении заставить стомиллионный народ иметь одно, твердое, непоколебимое мировоззрение, это неизбежно: нельзя никому позволить фантазировать, – никому, кроме учителя и вождя, все за всех решающего и объясняющего. Но надо в таком случае откровенно признать, что функция творчества у литературы отнята. Слово «творчество» в России осталось, но смысл его потерян. И мы должны помнить, что с нашим понятием «литература» имеет уже мало общего то обслуживание очередных пунктов правительственной программы, которое становится уделом всякого советского литератора, желающего не только писать, но и печататься.
Федин – человек искренний и серьезный, один из тех советских писателей, которым можно верить и доверять. Именно это и привлекательно в нем. Он, может быть, менее даровит, чем, например, Леонов, – но писания его имеют в конце концов больше значения, потому что он их проверяет в глубине сознания и за них принимает ответственность. Помимо того, у Федина есть еще одно редкое и большое достоинство: чувствуется, что он пишет медленно, как бы на каждой странице останавливаясь и думая, внимательно вглядываясь в своих героев, взвешивая малейшее слово… В толпе ремесленников, беззаботно выпускающих с рекордной быстротой свои механические изделия, он выделяется по самому темпераменту своему, как художник.
Тем более тягостно читать «Похищение Европы». Федин в этом романе похож на рыбу на песке:
Возможно биться, нельзя дышать…
Дышать ему, действительно, нечем. Уверенный и тонкий рисунок, острота зрения, словесная находчивость, душевная проницательность, своеобразие повествовательного тона – все ни к чему. Федин знает, что необходимо дать роман, который служил бы какой-нибудь практической цели, роман, в котором ясно было бы, для чего он написан. Для изображения ли «загнивания» западной буржуазии, для характеристики особенностей пролетарского движения или, может быть, для изобличения классовых противоречий континентального общества в период кризиса… Сюжетов, одобренных и рекомендованных к разработке, не очень много. На одном из них остановиться неизбежно. Свобода выражается лишь в праве выбора и в возможности приспособить какую угодно фабулу к заранее установленной тенденции. Писатели покрепче, но грубее, справляются с этой задачей не то что лучше Федина, но как-то менее болезненно и мучительно. Некоторые из них даже входят во вкус работы. Но у Федина – организм хрупкий. По существу, это романист-психолог, которому ближе и понятнее драма человеческого сознания, нежели перипетии стачечного движения в Силезии; по существу, это писатель тихий, узкий, глубокий, писатель, который создан «для четырех стен», а вовсе не для площадей и толп… Но укатали сивку горки, надели и на Федина общий мундир руководителя и заправилы советской литературы.
Естественное возражение: зачем же он пишет, зачем печатает, кто его, грубо говоря, тянет за язык? Ответ на это естественное возражение не так прост, как оно само. Если бы человеческое сознание было так независимо и сильно, как хотелось бы, если бы вообще человек, даже умный, даже зоркий, даже с развитой индивидуальностью, труднее вовлекался в общий поток настроений и суждений окружающей его среды, если бы в нем неодолим был дар сопротивления – пришлось бы, конечно, говорить о скверных сделках с совестью. Но, увы, человек уступчив и податлив. Никого не желая оскорбить, можно все-таки высказать предположение, что среди нас так же много случайных эмигрантов, как в России – случайных советских граждан, хотя ни те, ни другие этой случайности не признают и не замечают. Искренность, страсть, самозабвение входят в игру будто по доброй воле. И человек служит не тому, чему должен был бы служить по всему своему складу, – хотя остается чист и честен.
В чистоте и честности Федина нельзя сомневаться. О, это не какая-нибудь Мариэтта Шагинян, насчет которой происходят разногласия. Федин не «приспосабливается». Но он калечит, обкрадывает, принижает, умаляет, искажает самого себя – из-за априорной веры в ленинскую заповедь, будто «литература есть часть общепролетарского дела» и из-за стремления согласовать расплывчатое это «дело» с тем его воплощением, которое дано сейчас в СССР. Натура Федина глубоко чужда всем советским идеям, всем советским порывам. Никогда бы, кажется, он, как Иван Карамазов, не пожертвовал одной «слезинкой» какого-либо ребенка ради всех будущих гармоний, торжеств и достижений, – а уж какое-либо оправдание «советского опыта» извлечь из созданных им образов невозможно совершенно. Но, вопреки себе, он слагает теперь славословия, хотя они и звучат как «Morituri te salutant!».
Действие «Похищения Европы» происходит за границей: сначала в Норвегии, затем в Голландии и Германии. В центре повествования – путешествующий советский журналист Рогов. Трудно, однако, назвать его героем, так как автор не меньшее внимание уделяет и другим лицам, в частности, Филиппу ван Россуму, богатому голландскому лесопромышленнику. У ван Россума – дела в России, где в качестве его представителя находится его племянник: это дает Федину возможность связать в один узел две фабульные нити, русскую и чужеземную, советскую и буржуазную.
Рогов встречает в Норвегии дочь ван Россума – Елену. Двух-трех слов достаточно, чтобы Рогов почувствовал к ней влечение. Сам не отдавая себе отчета в своих действиях, московский журналист отправляется в Голландию. Но Елену ему видеть больше не суждено. Елена умерла. Зато встречается он с женщиной, странно на нее похожей, – и притом русской. Это жена того ван Россума, который работает в России, – ее зовут Клавдия Андреевна. Нежность Рогова к Елене переходит на нее. Налаживается дружба, начинаются прогулки, беседы, объяснения… А в это время капиталистический мир трещит и разваливается, ван Россум терпит убытки и не знает, где найти выход из положения, шоферы бастуют, рабочие голодают и в уютных гостиных благовоспитанные дамы говорят классово-четкие глупости, меж тем как их мужья тревожно совещаются о средствах борьбы с советским демпингом.
Роман хорош в тех сценах, где Федин свободен. Норвежские пейзажи, встреча с Еленой, разговоры у ван Россумов, образ Клавдии Андреевны и многое другое. Федин бесспорно вырос, как художник: не осталось и следа от манерности «Городов и годов» или «Братьев». Но там еще был замысел – а здесь его нет. Чужая линейка, чужая указка заметны всюду, и весь роман в целом скрипит, как несмазанная телега. Невозможно сочетать и примирить смутно грустную лирическую окраску некоторых его эпизодов с нелепым «отображением» экономического кризиса, вдруг врывающимся в повествование, невозможно уловить связи одного с другим. Создается впечатление, будто для самого себя, в черновике, Федин написал совсем другую книгу – и книга эта, вероятно, прекрасна. А то, что напечатано в Москве, – только официальный и казенный вариант совсем неказенной темы!
Это, конечно, не так. Но очень жаль, что это не так.
<«Краткая история русской литературы» П. Бицилли. – «Перелом» В. Унковского>
В нашей здешней эмигрантской литературе имя П. Бицилли дорого всем тем, кто ценит мысль. Когда видишь его подпись, будь то под большой журнальной статьей, или случайной заметкой, сразу испытываешь какое-то особое, чисто умственное, головное нетерпение, – и редко бываешь разочарован. Случается, – довольно часто, – что трудно согласиться. Но всегда к концу чтения охватывает умственное волнение, – и тут же, над еще раскрытой книгой, вступаешь с автором в длительную, молчаливую беседу. Традиционное выражение «будит мысль» применимо не к очень большому числу наших современников: раз, два – и обчелся… Бицилли – бесспорно из тех, кто имеет на него право.
Он историк по специальности. Но литература всегда влекла его и возбуждала в нем страстный интерес. Бицилли мог бы, вероятно, стать одним из тончайших наших критиков, если бы нашел время уделять «текущей словесности» больше внимания. Он литературу и знает, и понимает: соединение редкое, много более редкое, чем обычно принято думать. Ученость его как бы творческая. В ней нет ничего «непереваренного», никаких мертвых грузов – имен, названий, дат, терминов, фактов, лежащих в памяти, как груда пыльных рукописей в наглухо запертом архиве. В знании он ищет и находит смысл, оно его не тяготит, он не «подавился книгами» по чьему то меткому, давнему выражению (кажется, Константина Леонтьева). О критическом даровании Бицилли можно судить хотя бы по коротким рецензиям, более или менее регулярно появляющимся в библиографическом отделе «Современных записок». В ста или полутораста строках Бицилли иногда успевает коснуться стольких тем и вопросов, что разработка их потребовала бы большого исследования. Некоторые из этих рецензий трудно забыть, – как, например, отзыв о зайцевской «Жизни Тургенева», появившийся года два тому назад.
С тем же «умственным нетерпением», о котором я только что говорил, принялся я читать «Краткую историю русской литературы. От Пушкина до наших дней», только что выпущенную Бицилли, такую тоненькую в сравнении с блаженной памяти Сиповскими и Смирновскими, что сразу возникает недоумение: как это автор сумел втиснуть весь свой огромный материал в несколько десятков страниц? Книга предназначена для школы. Это обыкновенный учебник. Но зная Бицилли, можно заранее быть уверенным, что и эта работа отчетливо отмечена его индивидуальностью, и, будучи написана для детей, интересна и для взрослых.
Это и в самом деле так. Да простит мне автор, если я решусь сказать, что книга его – учебник в высшей степени спорный. И от рядового педагога, и от рядового школьника она требует такого напряжения, которое им не под силу, – да кроме того, в ней слишком мало сведений по сравнению с количеством соображений и суждений. Очерк о Пушкине, например, не даст почти ничего юному сознанию, впервые над Пушкиным задержавшемуся, – я представляю себе, что человек, Пушкина не знающий, прочтя Бицилли, легко может впасть в такое же удивление, как тот мещанин, о котором где-то рассказывает Лев Толстой: «легкомысленный сочинитель, не за что ставить ему монументы!». Правда, у Бицилли Пушкин не легкомысленен: он – никакой, его в книге нет. Автор «Краткой истории» делает множество замечаний о Пушкине, – но замечаний таких, которые приобретают значение лишь после основного знакомства с поэтом. Трудно, конечно, такому изощренному человеку как Бицилли вновь вернуться к основным суждениям о Пушкине, – но уж если составлять учебник, это было необходимо. Михайловский, по собственному своему признанию, колебался однажды, не отказаться ли ему от предложения написать статью о свободе слова. В постоянных своих мыслях об этой свободе он забыл исходные, первые, важнейшие суждения. Они в его сознании стерлись, притупились, он их не мог восстановить с той же страстью, которую вызывали в нем мысли второстепенные, производные… Приблизительно в таком же положении находятся сейчас все русские литераторы по отношению к Пушкину. Да и «второстепенные» суждения Бицилли, как они ни интересны, далеко не всегда отмечены полной убедительностью: утверждение, например, что в «Медном всаднике» сказалось православное отношение Пушкина к жизни, способно настроить кого угодно на полемический лад! А таких замечаний в книге множество.
Есть одно большое достоинство в этом странном учебнике: у юноши со врожденным чутьем и любопытством к литературе он должен развить к ней подлинный интерес. Развить – именно благодаря спорности и «субъективности» своей. Над таким учебником не заснешь, как над Саводником. Автор ставит себе прекрасную цель: «помочь нашей молодежи выработать в себе навыки чтения художественных произведений, какие необходимы для понимания их стилистических особенностей, без чего усвоение их содержания в истинном значении этого слова – просто немыслимо». Иначе говоря, он хочет внушить тем, кто будет по его книге учиться, принцип единства содержания и формы, – принцип действительно важнейший, азбучный и при этом почти во всех учебниках игнорируемый. Кое-где забывает о нем и сам Бицилли, – но искать систематики и выдержки в этой «Истории» вообще было бы напрасно. Это, в сущности, полемический труд, способный благодаря живому уму и даровитости автора «задеть» любое постороннее сознание, но не рассчитанный на что-либо другое… Только полемической, точнее православно-полемической тенденцией можно объяснить, что Лескову в книге отведена отдельная глава; Гончарову же и Салтыкову-Щедрину несколько строк, а Писемскому и того меньше. Только ею можно объяснить некоторые замечания о Толстом и о его предсмертном отношении к церкви: с точки зрения «творимой легенды» это весьма благообразно и красиво, но само по себе крайне шатко. Я уже не говорю о таких вскользь брошенных словах, как оценка «Анны Карениной»:
– Не все вещи Толстого одинаково удачны. Его второй большой роман «Анна Каренина» лишен художественной цельности.
Может быть, это и верно. Взгляд, может быть, и основательный. Но в учебниках не принято отступать слишком резко от установленных «средних» мнений, – и уж во всяком случае, полагается эти отступления подробно мотивировать. Бицилли пишет для самого себя и сам с собой беседует. Это в книге увлекательно и привлекательно… но бедные учителя словесности, бедные школьники: много предстоит им потрудиться над усвоением этого причудливого курса. Талантливые и самостоятельные сумеют его дополнить и как бы «выправить», другие же, пожалуй, погибнут над интеллектуальной тяжестью и скрытой запальчивостью этой скромной на вид брошюрки.
Отраден в суждениях Бицилли его острый художественный вкус, сказывающийся в разборе творчества таких поэтов, как Тютчев, Некрасов или даже Фет. И уж если коснуться поэзии, отрадно и достойно быть особо отмеченным то, что впервые в учебнике русской словесности упомянуто имя Иннокентия Анненского: «даровитейший из старших символистов». Спасибо и на том, – хотя здесь Бицилли со своей независимостью от средних, общепринятых мнений мог бы пойти дальше, и сказать больше. Надо надеяться, что лет через двадцать пять в учебниках словесности Анненский будет охарактеризован не только так, как определяет его Бицилли, но и как один из величайших русских лириков вообще. Тютчев ждал признания очень долго. Дождется его и Анненский.
* * *
Роман К. Унковского «Перелом» – чистейший, типичнейший образец эмигрантского романа. Все в нем есть: тоска по родине, описание Константинополя и Парижа, размышления о героическом, подвижническом характере русской женщины, мечты о лучшем будущем, рисующемся в виде выигрыша в какой-нибудь фантастической лотерее, нищета, суета, растерянность, несчастная любовь, помесь «французского с нижегородским», – одним словом, все.
Правда, нет «активизма». В некоторых эмигрантских повествованиях действует непременно какая-нибудь красавица, Ася или Тася, бросающая миллионера-жениха ради того, чтобы пробраться в Москву и пристрелить там изверга-чекиста. Унковский настроен миролюбиво и сговорчиво, даже с легким налетом «непротивления злу». Его герой, странствуя по заграницам и вспоминая невозвратное дореволюционное время, чаще думает о своих любовных невзгодах или победах, нежели о кровавой мести большевикам. Если в романе и встречаются беседы или рассуждения на политические темы, то ведутся они, так сказать, «с птичьего полета» и окрашены в тона горестно-скептические и устало-безнадежные. Все суета сует, реально лишь личное счастье.
Студент Шитов потерял свое счастье в России – когда оставил там Любочку Онацкую. Прошло восемь лет. Полуголодный, полунищий Шитов встречает Любочку в Константинополе. Она замужем, однако не отталкивает Шитова, а, наоборот, поддерживает в его истерзанном сердце сладкие надежды. За Любочкой Шитов отправляется во Францию, но здесь в ней разочаровывается. Наступают снова долгие месяцы одиночества и тоски. Шитов сначала работает на заводе в Бельфоре, потом переселяется в Париж. Тут он осматривает достопримечательности и, подчиняясь естественному зову натуры, ищет любви. Любовь приходит в образе Шуры, дочери той дамы, у которой он нанимает комнату. Шура – сорбоннская студентка, «эстетка», но в глубине души обыкновенная русская девушка. Она поражает Шитова блеском своего литературного образования: «Пруст моя настольная книга», – Шитов же по части Пруста совсем слаб. Шура сообщает также, что «обожает д-Аннунцио», а вот «Данте совершенно не выносит»; он ей «кажется ходульным». Несмотря на весь этот вздор, Шура не глупа и была бы по душе Шитову, если бы вела себя чуть-чуть скромней… Вскоре он бежит и от нее. По удачному стечению обстоятельств ему нежданно-негаданно предлагают прекрасное место в Африке, где, наконец, он будет вполне обеспечен. Однако под тропическим небом Шитов томится без Шуры, а она в холодном Париже скучает о нем. Все кончается как нельзя лучше – и на последней странице романа дано обещание, что влюбленные соединятся и будут счастливы. Шитов смотрит на небо и, наблюдая падающие звезды, думает:
– А может быть, там и моя звездочка. И Шурина тоже?
Философски-возвышенные мысли его о мировых катастрофах и гибели вселенной менее отчетливы, нежели порывы любовные.
Роман по фабуле довольно занимателен и написан не без бойкости. Непритязательность стиля доходит до того, что автор изъясняется местами совершенно так же, как его сероватый герой, и пишет, например: «Сестра милосердия, молоденькая, хорошенький сим-помпончик, улыбнулась…»