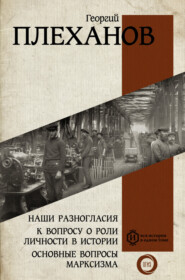По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Генрик Ибсен
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Это – заколдованный круг. Ибсен не сумел, – да и не мог, по указанным уже мною социологическим причинам, – найти в окружавшей его крайне неприглядной действительности точку опоры для приложения «очищенной» воли, средств для перестройки этой неприглядной действительности, для ее «очищения». Поэтому Бранд «безусловно должен» проповедывать очищение воли ради очищения воли, бунт духа – ради бунта духа.
Далее. Мелкий буржуа – прирожденный оппортунист. Ибсен ненавидит оппортунизм всей душой и чрезвычайно выпукло изображает его в своих произведениях. Достаточно вспомнить хотя бы типографщика Аслаксена (во «Враге Народа») с его постоянной проповедью умеренности, которая, по его словам («насколько я, т. е., понимаю»), есть первая добродетель гражданина. Аслаксен, это – типичный мелкобуржуазный политик, проникающий даже в рабочие партии мелкобуржуазных стран. И как естественная реакция против «первой добродетели» Аслаксенов, является гордый девиз Бранда: все или ничего. Когда Бранд гремит против мелкобуржуазной умеренности, он прекрасен. Но, не находя точки приложения для своей собственной воли, он «безусловно должен» впасть в пустой формализм и крохоборство. Когда его жена Агнес, отдав нищей все вещи своего покойного ребенка, хочет сохранить себе на память чепчик, в котором умер малютка, Бранд восклицает:
Идола Богом признала,
Ну, и служи ему.
Он требует, чтобы Агнес отдала и чепчик. Это было бы смешно, если бы не было жестоко.
Настоящий революционер ни от кого не станет требовать ненужных жертв. Но не станет единственно потому, что у него есть критерий, позволяющий ему отличить нужные жертвы от ненужных. А у Бранда такого критерия нет. Формула: «все или ничего» не может его дать; его надо искать вне ее.
Форма убивает у Бранда все содержание. В беседе с Эйнаром он, защищаясь от подозрения в догматизме, говорит:
Не новое я нечто замышляю, я правду вечную хочу упрочить. Не церковь возвеличить я стремлюсь, не догматы. Имели день свой первый, так, верно, узрят и последний вечер. Начало всякое предполагает конец, так как конца зародыш все, что создано, сотворено и место грядущей форме бытия уступит. Но нечто есть, что существует вечно, – несотворенный дух, попавший в рабство весною первой бытия, обретший свободу вновь, когда от плоти мост он к своему источнику, мост веры несокрушимой смело перебросил. Теперь дух измельчал, благодаря воззренью человечества на Бога; так вот и должно из обрывков душ, обломков жалких духа воссоздать вновь нечто цельное, чтоб мог узнать в нем своего творения венец, – Адама юного Господь Творец!
Здесь Бранд рассуждает почти как Мефистофель:
Alles, was entsteht, Ist wert, da? es zuGrunde geht
Все, что возникает, достойно гибели.
И вывод у них обоих почти одинаковый. Мефистофель умозаключает:
Drum besser w?r's, Wenn nichts entst?nde
Потому лучше было бы, если б ничего не возникало.
Бранд этого прямо не говорит, но он равнодушен ко всему тому, что имело первый день, и что поэтому узрит когда-нибудь свой последний вечер. Он дорожит только тем, что существует вечно. Но что же вечно существует? Движение. В переводе на теологический, т. е., значит, идеалистический язык Бранда это значит, что вечно существует лишь «несотворенный дух». И вот, во имя этого вечного духа, Бранд поворачивается спиною ко всему «новому», т. е. временному. В конечном счете у него получается такое же отрицательное отношение к этому временному, как и у Мефистофеля. Но философия Мефистофеля односторонняя. Этот Geist, der stets verneint (дух, всегда отрицающий), позабыл, что если бы ничто не возникало, то нечего было и отрицать[25 - Гегель очень хорошо говорит в своей большой «Логике», что «das Dasein ist die erste Negation der Negation», то есть данное бытие есть первое отрицание отрицания.]. Совершенно так же и Бранд не понимает, что вечное движение («несотворенный дух») проявляется только в создании временного, т. е. нового: новых вещей, новых состояний и отношений между вещами. Его равнодушие ко всему новому превращает его в консерватора, несмотря на его святую ненависть к компромиссу. Диалектике Бранда недостает отрицания отрицания, и это делает ее совершенно бесплодной.
Но почему же недостает ей этого необходимого элемента? Тут опять виновата среда, окружавшая Ибсена.
Эта среда была достаточно определенна для того, чтобы вызвать в Ибсене отрицательное отношение к ней, но она была недостаточно определенна, – потому что слишком неразвита, – для того, чтобы породить в нем определенное стремление к чему-нибудь «новому». Потому-то у него и не было силы произнести волшебные слова, способные вызвать образ будущего. Потому-то он и заблудился в пустыне безвыходного и бесплодного отрицания. Методологическая ошибка Бранда получает, таким образом, свое социологическое объяснение.
VI
Но эта ошибка, тоже унаследованная Брандом от Ибсена, не могла не повредить всему творчеству нашего драматурга. Ибсен сказал о себе в речи, произнесенной им в «Союзе для защиты женского дела»: «Я более поэт и менее социальный философ, чем это обыкновенно думают». По другому поводу он заметил, что его намерением всегда было вызвать в читателе такое впечатление, как будто он переживает нечто действительное! И это понятно. Поэт думает образами. Но как представить себе в образе «несотворенный дух?». Тут необходим символ. И вот Ибсен прибегает к символам всякий раз, когда заставляет своих героев блуждать во славу «несотворенного духа» в области отвлеченного самоусовершенствования. Но на его символах неизбежно отражается бесплодность их блуждания. Они бледны, в них слишком мало «живой жизни»: они – не действительность, а лишь отдаленный намек на нее.
Символы – слабая сторона в творчестве Ибсена. Его сильной стороной является бесподобное изображение мелкобуржуазных героев. Тут он является несравненным психологом. Изучение этой стороны его произведений необходимо для всякого, желающего изучить психологию мелкой буржуазии. В этом отношении внимательное изучение Ибсена обязательно для всякого социолога[26 - Одна из самых интересных черт мелкобуржуазной психологии замечается у нашего хорошего знакомого, доктора Стокмана. Он не нарадуется на дешевый комфорт своей квартиры и на сытость своего, недавно приобретенного положения. Он говорит своему брату бургомистру:– Да, да, можешь себе, я думаю, представить, что нам таки туго приходилось там (на старом месте. Г. П.). А теперь живем, как помещики! Сегодня, например, у нас за обедом был ростбиф. Еще и на ужин осталось. Не отведаешь ли кусочек? Или дай хоть показать тебе его… Поди сюда.Бургомистр. Нет, нет, ни в коем случае…Доктор Стокман. Ну, так иди сюда. Видишь, мы обзавелись новой скатертью.Бургомистр. Да, заметил.Доктор Стокман. И абажуром. Видишь, все Катерина сэкономила.И т. д., и т. д.Когда мелкий буржуа решается на самоотвержение, эти абажуры и ростбифы занимают видное место в ряду вещей, принесенных им на алтарь идеи. Ибсен хорошо подметил это.]. Но как только мелкий буржуа начинает «очищать свою волю», он превращается в назидательно-скучную отвлеченность. Таков консул Берник в последней сцене «Столпов общества».
Ибсен и сам не знал, да и не мог знать, что предпринять ему со своими отвлеченностями. Поэтому он или опускает занавес тотчас после их просветления, или же губит их где-нибудь на высокой горе от обвала. Это напоминает, как Тургенев уморил Базарова и Инсарова, не зная, что именно можно было предпринять с ними. Но у Тургенева это сживание со света своих героев вызывалось незнанием того, как действовали русские нигилисты и болгарские революционеры. А у Ибсена дело было в том, что и нечего было делать людям, занимающимся самоочищением ради самоочищения.
Гора рождает мышь. Это часто случается в драмах Ибсена. И не только в драмах, а и во всем его миросозерцании. Взять хоть бы «женский вопрос». Когда Гельман говорит Норе, что она – прежде всего жена и мать, та отвечает:
«Я в это больше не верю. Я думаю, что прежде всего я человек или, по крайней мере, должна постараться стать человеком». Она не признает браком обычного «законного» сожительства мужчины с женщиной. Она стремится к тому, что у нас называлось когда-то эмансипацией женщины. К этому стремится, по-видимому, и «дочь моря» Эллида. Она хочет свободы во что бы то ни стало. Когда муж предоставляет ей свободу, она отказывается следовать за «неизвестным», к которому ее прежде так тянуло, и говорит мужу:
«Ты был для меня хорошим врачом. Ты нашел и отважился применить единственно верное средство, единственное, которое могло помочь мне».
Наконец, даже фру Майя Рубек («Когда мы, мертвые, пробуждаемся») не довольствуется тесными пределами семейной жизни. Она упрекает своего мужа в том, что он не исполнил своего обещания взять ее с собой на высокую гору и показать ей все царства мира и славу их. Окончательно разорвав с ним, она, «ликуя», поет:
Конец моей прежней неволи,
Я вольная птица теперь,
На воле, на воле, на воле.
Словом, Ибсен стоит за освобождение женщины. Но здесь, как и везде, его интересует психологический процесс освобождения, а не его социальные последствия, не то, как отразится оно на общественном положении женщины. Важно освобождение, а по общественному положению женщина пусть остается тем же, чем была до сих пор.
В речи, произнесенной им в «Союзе для защиты дела женщины» 26-го мая 1898 года, Ибсен признается, что ему непонятно, что это такое – «дело женщины». Дело женщины есть дело человека. Ибсен всегда стремится «поднять народ «а более высокую ступень», и решить эту задачу призваны, по его словам, особенно женщины. Именно, матери посредством упорной и медленной работы возбудят в народе стремление к культуре и чувство дисциплины. Это необходимо предварительно сделать для того, чтобы поднять народ на более высокую ступень. А сделав это, женщины решат вопрос человека. Словом, ради «дела человека» женщины должны ограничить свой горизонт пределами детской комнаты. Ясно ли это?
Женщина – мать. Так. А мужчина – отец. Однако это не мешает ему выходить из детской. Освобожденная женщина удовольствуется ролью матери, как довольствовалась ею женщина, никогда не задумывавшаяся о свободе. Да это и несущественно. Важно вечное, а не временное. Важно движение, а не его результаты. «Бунт человеческого духа» оставляет все на старом месте. Огромная гора опять разрешается маленькой мышкой, благодаря той методологической ошибке, для которой указано было мною социологическое объяснение.
А любовь – любовь между мужчиной и женщиной? Еще Фурье с огромным сатирическим талантом указывал на то, что буржуазное общество, – цивилизация, как выражался он, – безжалостно топчет любовь в грязи денежного расчета. Ибсен знал это не хуже Фурье. Его «Комедия любви» представляет собою превосходнейшую сатиру, которая до последней степени зло осмеивает буржуазный брак и буржуазные семейные добродетели. Но какова развязка этой замечательной пьесы, одной из самых лучших пьес Ибсена? Девица Свангильд, любящая поэта Фалька, выходит замуж за негоцианта Гульдстада и делает это именно во имя своей возвышенной любви к Фальку. Между ней и Фальком происходит по этому поводу следующий невероятный, но весьма характерный для миросозерцания Ибсена разговор:
Фальк… Расстаться нам с тобой, когда так ярок, чист свод неба голубой, когда открыт нам мир восторгов, упоенья и чар весны, когда союз наш молодой сегодня только получил крещенье…?!
Свангильд. Как раз поэтому. Стоим мы на вершине, и шествию победному – отныне путь под гору лежит. Но в страшный день суда к ответу может нас призвать судья наш строгий, и горе, если на вопрос Творца – куда девали дар Его ответим, что дорогой утерян нами дар любви святой!
Фальк. Взгляд я понял твой!
На этом лишь пути тебя догнать могу я!
Как душу к жизни вечной тела смерть ведет, так и любовь бессмертье обретет тогда лишь, как желаний плотских сбросит гнет и отлетит в родной духовный мир, минуя, воспоминаньем чистым став! Кольцо долой!
Свангильд (в восторженном порыве).
Так сделала теперь свое я дело зажгла в тебе огонь поэзии живой!
Лети! Взвился к победе соколиной, а Свангильд – песню лебединую пропела!
(Снимает с пальца кольцо и целует его.)
До дня кончины мира в глубине морской лежи, моя мечта, – я твердою рукою тебя похороню.
(Делает несколько шагов к фиорду, забрасывает кольцо в воду и возвращается к Фальку с просветленным лицом.)
Для жизни скоротечной тебя утратила – и обрела для вечной.
Это – полное торжество вечного, «несотворенного» духа, и в то же время, – и именно по этой причине, – это полное самоотречение, самоуничтожение «нового», временного. Победа «очищенной» воли равносильна полнейшему ее поражению и торжеству того, к отрицанию чего она стремилась. Поэтический Фальк уступает честь и место прозаическому Гульдстаду. В борьбе с буржуазной пошлостью герои Ибсена оказывались всего слабее именно тогда, когда их «очищенная» воля обнаруживала наибольшую силу. «Комедия любви» могла бы быть названа «Комедией автономной воли».
VII
Недавно, в известной парижской газете «L'Humanité», т. Жан Лонгэ назвал Ибсена социалистом. Но в том-то и дело, что Ибсен был так же далек от социализма, как и от всякого другого учения, имеющего общественную подкладку. В доказательство я сошлюсь на речь, произнесенную Ибсеном в дронтгеймском рабочем союзе 14 июня 1885 года.
В этой речи маститый драматург описывает впечатления, полученные им при возвращении на родину после многолетней жизни за границей. Он увидел много отрадного, но испытал и некоторые разочарования. Он с сожалением убедился в том, что необходимейшие личные права еще не пользуются в его стране надлежащим законодательным признанием. Правящее большинство произвольно ограничивает свободу совести и речи. С этой стороны остается еще много сделать, но нынешняя демократия[27 - Слово: «нынешняя» подчеркнуто в печатном тексте речи. Ibid., S. 525.] не будет в состоянии решить эту задачу. Чтобы она могла быть решена, в правительство, в государственную жизнь, в печать и в народное представительство должен быть предварительно внесен элемент благородства. «Говоря это, – поясняет Ибсен, – я думаю, конечно, не о дворянском благородстве, не о благородстве денежной аристократии, не о благородстве знания и даже не о благородстве способностей, дарования. Я имею в виду благородство характера, благородство воли и настроения. Только такое благородство освободит нас». И это благородство придет, по его словам, с двух сторон: «со стороны женщин и со стороны рабочих».
Это в высшей степени интересно. Во-первых, «правящее большинство», которым недоволен Ибсен, приводит на память то «сплоченное большинство», с которым воевал доктор Стокман. Оно тоже навлекает на себя упрек в отсутствии уважения к правам личности вообще, – в частности к свободе совести и слова. Но, в противность Стокману, Ибсен не говорит, что «недохватка кислорода» осуждает человека из «массы» на отупение. Нет, рабочий класс является здесь одной из тех двух общественных групп, от которых Ибсен ждет обновления общественной жизни Норвегии. Это как нельзя лучше подтверждает сказанное мною выше о том, что Ибсен вовсе не был сознательным противником рабочего класса. Когда он задумывается о нем, как об особой составной части «толпы», – что случилось с ним в Дронтгейме, но что случалось с ним вообще крайне редко, – он как будто уже не довольствуется «доением козла», освобождением ради освобождения, «бунтом духа» ради «бунта духа», а указывает на определенную политическую задачу: расширение и упрочение индивидуальных прав. Но каким путем следует идти к решению этой задачи, которая, кстати сказать, должна быть отнесена к числу «частичных революций», так резко осужденных Ибсеном? Казалось бы, что путь этот должен вести через политическую область. Но в политической области Ибсен всегда чувствует себя слишком неуютно. Он спешит уйти в несравненно более привычную и привлекательную для него область морали: он ждет всего лучшего от внесения в политическую жизнь Норвегии «элемента благородства». Это уже совсем туманно. Здесь как будто говорит его художественное детище, Иоганн Росмер, который тоже задается целью сделать всех людей в стране «благородными людьми». («Росмерсгольм», первое действие). Росмер надеется достигнуть этой возвышенной цели, «освободив дух» людей и «очистив их волю». И это, разумеется, похвально. Свободный дух и чистая воля весьма желательны. Но политики здесь нет ни одной капли. А без политики нет и социализма.
Заметьте: в том, что Ибсен говорил дронтгеймским рабочим о «благородстве», была большая доля правды. Его чутье поэта, не выносившего мелкобуржуазной умеренности, опошляющей даже благороднейшие движения души, не обмануло его, указав ему на рабочих, как на тот общественный элемент, который внесет в общественную жизнь Норвегии недостающий ей элемент благородства. Энергично стремясь к своем великой «конечной цели», пролетариат в самом деле освободит свой дух и очистит свою волю. Но Ибсен извращал действительное отношение вещей. Чтобы в пролетариате произошло это, нравственное перерождение, ему необходимо предварительно поставить перед собою эту великую цель: иначе он не выйдет из мелкобуржуазной трясины, несмотря ни на какие нравственные проповеди. Благородный дух энтузиазма вносят в рабочую среду не Росмеры, а Марксы и Лассали.
Нравственное «освобождение» пролетариата будет достигнуто лишь посредством его социальной освободительной борьбы. «В «начале было дело», говорит Фауст. Но этого-то и не понимал Ибсен.