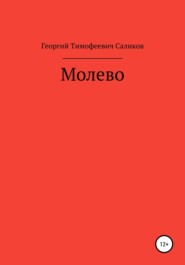По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Василеостровский чемодан
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Что-то, Егорыч, ты и знаться перестал; я тебя на первом этаже в лифте поджидал, а ты и внимания не обращаешь, – сказал он с незлобивой укоризной, спешно восстанавливая вертикальное положение.
У Егорыча ключ со скважиной не сходился.
– Давай, помогу, – сказал сосед уже отеческим тоном, но с остаточной горчинкой.
Егорыч потыкал, потыкал ключиком в прорезь, а потом покорно передал этот потёртый матово-золотистый предмет, подозрительно похожий на востребованный в сей час, отставному командиру танка. Тот внимательно оглядел вещь, потом также пытливо всмотрелся в прорезь. Далее глаза у него побегали несколько раз от прорези к ключу и обратно.
– Ключ не тот, – было его резюме.
– А замок? – спросил профессор.
– И замок не тот.
– Почему же тогда не совмещаются они, если и тот, и тот – оба вместе не те?
– А потому-то и нет совпадения, что, и тот, и тот – не те, что надо.
– Хи-хи, а вы, наверное, большой любитель пофилософствовать, – профессор ещё пошарил по карманам, из которых давеча вытаскивал куклы, – угу, этот непонятно что отпирает, а тот, что надо, выпал на спуске.
– Диковинные у тебя выражения, Егорыч: «выпал на спуске, спустился на выпаде».
– Как-как? спустился на выпаде? это замечательно, очень глубокомысленое выражение; вы действительно большой любитель пофилософствовать; однако мне этот выпад совершенно некстати, и придётся спускаться обратно, но не выпадать… ага, лифт работает… ну да ладно, я и так, пешочком.
И профессор медленно пошёл по лестнице вниз, вынося то одну, то другую ногу далеко вперёд, будто к чему-то примериваясь или выражая таким образом вновь приобретённое задумчивое состояние. Затем, выйдя на улицу и спиной затворив дверь парадной, также не спеша, побрёл он к мосту, чтобы преодолеть широкую воду и оказаться на площадке, где лежит потерянный ключ, охраняемый свирепыми львами, порой насмехающимися над настоящими горожанами.
А в голове у профессора или, точнее выразиться, вокруг неё стали зарождаться звуки. Будто исходили из невидимых стереонаушников, надетых на эту голову. В действительности же они пробивались из несуществующего в природе вместилища, прямо скажем, из небытия, и жадно вырастали, становясь, по мере роста, всё более и более независимыми, создавая некий пространственно-звуковой купол. Оттого-то и напросилась аллегория со стереонаушниками. Сначала один – тонкий-тонкий, но похожий на что-то металлическое. Затем второй, тоже тонкий, но совершенно воздушный. А потом разом возник мощный ворох звуков, будто древесная крона шумит под порывами ветра, накатами сменяющих друг друга. И параллельно вышло что-то, подобное натуженному шёпоту плотно стиснутой груды народа подле узкого выхода на свет Божий. И некий позывной гуд начался как бы исподтишка, но уверенно. Он пошёл, нарастая и нарастая, порой коварно припадая, но затем обнимая собой всё, словно пожар. А внутри этих представших сложно сочетаемых звуков, сперва несмело, а потом утвердительно послышался перезвон, похожий на звук молодого ручья. За ним – одинокий человеческий голос. Он очутился в точке центра головы. Этот живой голос возникал многосложными волнами. То ярко и сочно прорывался он изнутри, перекрывая описанную нами звуковую громаду целиком, то прятался в укрытии: либо в кроне дерева, либо в гуще толпы. Или тонул в ручейке. Или сгорал в пожаре. Всё действо обретало образ пока ещё не пойманного свойства, но зато обзаводилось характерной звуковой личностью. Потом, незаметно для профессора, произвелись метаморфозы. Тонкий металлический звук яснее и яснее стал походить на постоянно вибрирующую тарелку, вернее многих разновеликих тарелок, обслуживаемых усердным ударником, а сквозь них на предельной высоте прорывались корнет-а-пистоны. Тонкий воздушный звук уподобился дыханию флейт, кларнетов и гобоев. Шепчущая древесная крона обернулась десятками скрипок, виолончелей и альтов, а стиснутый народ – контрабасами с фаготами и геликоном. Гул пожара исходил, оказывается, из лабиринта валторн и ёмкостей литавр. Чистый ручей катился по фортепьянным клавишам. И всё, всё, всё постепенно укладывалось в гармонию. А с ней пытался спорить, порой до откровенного диссонанса, обычный человеческий голос, обладающий завидным диапазоном от колоратуры до баритона. И едва всё уложилось окончательно и гармонично в конкретную форму, профессор покачал головой, сказал про себя: «опять не получилось», и быстрее зашагал на поиски ключа.
На мосту профессор снова столкнулся с Босикомшиным.
А пока расскажем подробнее, кто таков, наш профессор.
По тому, как у него в голове и вокруг неё зарождаются иногда (а то и всегда) звуки всякие и укладываются без его воли в гармонию, можно догадаться, что наш профессор – не простых естественных наук или медицин, а музыки. Он – профессор музыки. Раньше он ходил Благовещенским мостом, таков путь короче, если идти на работу в консерваторию. Но то, действительно раньше, когда он занимал должность завкафедры. А почему вдруг вкралось прошедшее время? Он никогда не переставал числиться в профессорско-преподавательском составе. Числится и сегодня, но редко ходит. И ключик, оказавшийся не тем, был у него запасным от постоянно приписанного ему класса, где он преподавал уроки фортепьяно и гармонии. Но уже давно не пользовался. Работа в консерватории стала для него второстепенной. И Благовещенский мост – тоже. Таковая перемена произошла в ту пору, как однажды, в ночной тишине, размышляя о музыке оркестровой и музыке чисел, профессор заснул, и в безразмерном пространстве сна он совершенно естественно разговорился с древним греком Пифагором о числовой музыке сфер…
Музыка чисел, между прочим, не оставляла его мыслей ещё с юности. Тогда, недобрав одного балла при поступлении в университет на математический факультет (а размещался он в те времена в двух шагах от его дома на Десятой линии), будущий профессор сразу же перекинулся на другой берег и всё прекрасно сдал в консерваторию, даже с запасом проходных баллов. Правда, она более удалена от места жительства, и туда надо ездить на трамвае, но – сдал, так сдал. И, подобно тому, когда восходишь на какую-нибудь горку, взор становится широким, да уводит в дальние дали, – жизнь повела юношу по вполне определённому сектору бытия. Зигзагообразно…
Профессор и раньше делал попытки распознать пифагоров контекст, где живут числа, а теперь, к нечаянной радости, сам учитель ясно и доходчиво ему ту науку рассказал «от и до». Древнегреческий гений поведал профессору о настоящих музыках настоящих сфер. Оказывается, наши знания о Пифагоре и его философии, в том числе и о теории чисел, не являются правдивыми. Оставленное богатство мысли замечательного грека беспардонно переврано всякими неграмотными последователями и поздними заносчивыми толкователями. А сон профессора расставил по местам всех: и ранних ревностных апологетов, и поздних упёртых пифагороведов. Выдал оригинальный текст из первых уст.
А дальше, подобно и отмеченным историей другим профессорам, удачно подглядывающим во снах знаменитые открытия, наш герой поутру, когда проснулся, то сразу же и положил на бумагу доподлинно всё, что видел и слышал во сне. Так он стал обладателем сферной теории колебательных сигналов. Но опубликовать новейшие открытия пока не торопился. То ли приоритетами не баловался, а то и уверенностью наполнялся. Уверенность же его состояла в том, что не предполагала даже и малого места для помышления о Пифагоре как о первом сплетнике, подряд рассказывающим кому попало по ночам то же, что и нашему профессору. Впрочем, даже если бы и рассказывал, то опять же какой смысл трезвонить на весь мир об известных всем, но не освоенных никем делах? Осмеют, и баста. Попал, мол, пальцем в небо. Хи. А оно ведь так и оказалось. Пальцем в небо. Только не одним, а всеми десятью пальцами попал он точнёхонько на небесную клавиатуру, ожидающую изучения себя и одоления.
Да, а что же у нас на мосту?
Босикомшин и профессор стояли без движения лицом к лицу. У них обоих, горожан, обогащённых опытом сталкивания со встречными прохожими на людных тротуарах, не возникало желания двигаться, с целью разойтись. Им же известно: встречный сразу сдвинется точно туда, куда и первый, а потом оба метнутся в противоположную сторону и так далее, будто два мастера цирковой клоунады.
Профессор улыбнулся. Босикомшин вдруг бурно расхохотался. Потом они обняли друг друга по-братски и стали поворачиваться в вальсе, чётко так, в три шага: один широкий и два поуже. Разворот проделал чисто геометрическую фигуру, напоминающую прямоугольный треугольник, квадраты сторон которого равны квадрату гипотенузы. Так, повернув оба тела на сто восемьдесят градусов и, сняв объятия, каждый из них, уже солируя, завершил по инерции собственный оборот до трёхсот шестидесяти градусов и, обратив голову назад, гася улыбку и хохот, помахал в воздухе рукой. Однако Пифагор с треугольниками и сферными теориями был, конечно же, ни при чём, тем более что Босикомшину он и не снился.
На спуске у воды ключ не хотел отыскиваться. Что это? Разве он может вообще хотеть? И может ли он даже мочь? Ерунда какая-то. Надо бы сказать следующее: ключ возможностями и желаниями не обладает. Но так мы думаем. А профессор воспринимал происходящее с ним на спуске проще. Именно так и думал, теми словами, нами высказанными в начале: «не хочет найтись, треклятость этакая, не желает попасться на глаза, негодник, не может просто оказаться ну, пусть на этой ступеньке, шалун этакий». Одновременно он вроде бы повторно, памятью ощутил на спине прикосновение руки Босикомшина там, на мосту, и то прикосновение было чем-то металлическим, оно даже причинило ему едва заметную боль в ту секунду братского объятия. Тогда странному прикосновению не придалось весомого значения – подумаешь, лёгкое надавливание. Не произошло ведь никаких травматических последствий, обнаруживающих себя в ощущениях значительной боли, жжения или любого другого дискомфорта. Но теперь, забытое прикосновение повторилось, и не в области части спины, а в области части сознания. Начало будоражить подозрение: «а что если?..» Но остальной рассудок (благо, он у нас привычно вступает сам с собой в диалог), то есть, остальные частицы разума без промедления укорили профессора: «ну, брат, плохо, плохо; ты потерял не только ключ, но и более ценный инструмент – простодушие». Мысленно перекрестившись, также мысленно стряхнув с себя чуждый налёт мнительности, он пошёл в сторону Капеллы, потому что внезапно вспомнил об утреннем концерте бывшего ученика. Вообще-то он уже давно остыл в чувствах к обычной музыке, но к воспоминаниям… к воспоминаниям продолжал испытывать тепло.
А желанием ключ действительно не беспокоился. Он, мокренький, и потому став слегка блестящим, совершенно безвольно поддавался теплу руки Босикомшина и аккумулировал в себе хаотическое движение молекул. Ага! Значит, кое-какое желание в нём всё-таки существует, если он способен к накоплению в себе хотя бы тепла. То-то и оно, желание есть вообще во всём существовании вещей. Полная вселенная, действием космического волшебника, попущенного рукой Создателя, – заворожена желанием. Ведь благодаря ему, любые тела постоянно друг к дружке взаимно притягиваются. Или не взаимно, а лишь некоторые избранные тела односторонне затягивает собой другие, никудышные. Точно нам не ведомо, кто кого, однако притяжение – налицо. Но какого рода оно у Босикомшина? Зачем ему вдруг захотелось подобрать и прикарманить обычный чужой ключ, совсем не нужную ему вещь, сущую железку? Ведь не знает он, где находится замок, им открываемый. И неизвестно, родившимся ли желанием личным подталкивался тот поступок или чужая внешняя сила влечёт? Он искренне о том не знал. Так же, как не представлял ничего и о сферной теории колебательных сигналов. Даже не чувствовал, почему пошёл опять на Васильевский остров, что его туда дёрнуло, и что придавало движения ногам. И когда Босикомшин дошёл до Кунсткамеры, его остановила всегда присутствующая сопротивленческая мысль. Он понял причину тяги, поскольку сила движения переросла в силу торможения. «Надо стоять и ждать, пока появится маг, а потом и выследить его, – подумал наш первый герой, сильно сжимая в руке металлическую находку, пропитанную теплом и снова ставшей матовой, – дождаться, выследить, а потом проникнуть в нужную квартиру и узнать всё о чемодане». Таковой была та первая мысль. А что последовало потом? «Зачем мне ключ, если я не знаю к нему замка? Зачем выслеживать, не проще ли вернуться и отдать эту вещицу законному хозяину»? «Отдать-то отдать, – проступила его третья мысль, – но с условием будущего посвящения в тайну чемодана». Но возникла и четвёртая мысль: «А какого рожна мне думать о нелепом чемодане»?
Солнце продолжало вспыхивать и гаснуть, то ослепительно появляясь в чистой дыре облачного покрова, то совершенно пропадая за основательной толщей тёмной тучи, то высветляло тонкую пелену меж тучами. И босикомшевые мысли также заменялись яркой на тёмную, тёмной на блёклую, вовсе пропадали и вновь пробуждались. Пока не вступили в действие ноги. Они озябли и стали притоптывать, обращая на себя внимание центральной нервной системы. Тут прошёл троллейбус, но Босикомшина, то есть его чувств не задел, только загородил собой на чуток державное пространство от взора, и всё. Потом разгородил. Для пожизненного пешехода троллейбус только и способен быть одной из помех, как в направлении глаз, так и на пути ног. Кстати, о ногах. Они уже не просто притоптывали, а, помогая глазам скорее освободить взор от движущейся ширмы, играющей роль общественного транспорта, пошагали в противоположную ей сторону и обогнули сзади, удачно решив спор босикомшевых мыслей без излишнего умствования. Ступив снова на гранит набережной, Босикомшин теперь уже бегом (то ли от уверенности, то ли от холода) помчался опять к мосту, перегнав троллейбус и оставив его дожидаться зелёного света у поворота на мост. Несмотря на то, что ещё с мгновенья нового старта, глаза отметили однозначную одинокость львов на том берегу, не утрачивалось у пешехода стремление добежать до заветной площадки у воды. Босикомшин бежал, временами цепляясь за перила, бежал и глядел на приближающуюся площадку, охраняемую львами. Он глядел и осознавал там чистую безлюдность, осознавал, но бежал, желая непременно увидеть человека, по странному обыкновению отправляющего кукол в плаванье, торопился, норовя будто случайно встретиться с ним на пятачке спуска к воде и, будто ненароком, спросить: «не эту ли вещицу вы ищете, господин хороший»? Вообще-то уже к середине моста он почувствовал горение в верхней части груди, жжение такое шероховатое в нижней области горла. Но оно образовалось не от пожизненности пешеходного труда, а от чего-то, похожего на изжогу. Бег не слишком был привычен для его не натренированного тела. Частое дыхание повышало кислотность в крови, и оттого появился пожар в области основания лёгких. Бег замедлился и превратился в шаг. А потом Босикомшин и вовсе повернул обратно, совершенно ничем себе того не объясняя. Повернул и пошёл. Но это бестолковое движение вскоре также необъяснимо прервалось. Прекращению способствовало отчасти давешнее столкновение с профессором. Такое случается. Столкнёшься с кем-нибудь и подумаешь: а туда ли я иду?.. К тому же и асфальт, освещённый теперь стойко уверенным жёлтым солнцем, ослепительно и чётко очерчивал продолговатый контур босикомшевой тени на мосту. Возникшая перед глазами, по правде сказать, чужая, но чисто природная уверенность, возможно, и развернула опять Босикомшина к другому берегу. А природная непредвзятость, знаете ли, вдохновляет иногда нашу ленивую мысль. Что-то в мысли самовольно оттачивается без нашего вмешательства. И начинает собою поблескивать, а то и, вопреки родительским генам невезучести, гордо подбоченившись, припускается прямиком к уже уготовленному успеху за праздничным столом. Бежит это что-то к замещению будто бы нарочно оставленного свободного места в собрании выдающихся мыслей признанных авторитетов и знаменитостей. И уже, будто балуясь всеобщим вниманием человечества, приобщается к ряду немеркнущих светил мирового и местного значения… хм. Что это за паразит в мысли? Точно не знаем, но, по-видимому, крепкий и волевой. Именно такого рода, пусть ничем не оправданная, но обнадёживающая и вдохновенная оболочка мысли развернула телесную оболочку Босикомшина и одномоментно подняла его взор к высотам неба.
Чистый цвет позеленелой бирюзы небесного купола редко пересекался лиловато-коричневатыми дорожками, выстроенными из узких, но кудлатых облаков, а подальше, за ними, несмотря на яркий свет неба, и совершенно незаметно глазу, сияли бесчисленные звёзды. Не просто они там себе блистали. Знаете, что наиболее интересное в них? Каждая звезда, имеет ведь принадлежность к одному из семи спектральных классов, известных под именами, данными им Морганом-Кинаном (O, B, A, F, G, K, M). И наш герой, в подтверждение нашему замечанию, между прочим, пробурчал в полголоса: «Один Бритый Англичанин Финики Жевал Как Морковь», припоминая эти конкретные буквенные обозначения спектральных классов, наподобие названий спектра солнечного света, вроде «Каждый Охотник»… ну и так далее, вы это и без нас помните. Итак, находясь на неодинаковом расстоянии от нашего наблюдателя и величину имея разную, всякое небесное светило источало будто бы определённый световой звук. Иначе говоря, на небосводе присутствует звуковой ряд из семи конкретных нот различной длительности и силы, со своими диезами и бемолями, поскольку есть у классов ещё и подклассы. И вышло то интересное, о чём рассчитывали мы вам поведать, и наш герой тому поспособствовал… Хм. Снова непонятность: каким устройством спектральный класс преобразовывается в звуковой ряд? Как сверхбыстрые частоты видимого света вдруг замедляются до слышимого звука? Но на сей раз я не советую пробовать разгадать такую загадку немедленно. Уже давно, и многие учёные мужи старались проделать подобное превращение, правда, больше наоборот – звук превратить в свет, вернее, в цвет. «Каждый Охотник…» ну и так далее. Но особых результатов мы пока не видим. Однако у нас иное представление, и мы не будем сковывать наше воображение. Здесь, над нами, звёздный коллектив оркестрантов Моргана-Кинана торжественно испускал грандиозное световое созвучие. Тем же временем иные светила заходили за горизонт, иные восходили. Шла мелодия. Земля, вращаясь вокруг нематериальной оси и вокруг жаркого солнца, напичканного протуберанцами, а также вокруг центральной области галактики, разбрасывающей рукава щедрым жестом спирального рисунка, она являлась естественным проигрывателем никем никогда не слышанной мелодии из несть числа голосов. Если при этом и горизонт чист, и на небе ни облачка. А когда идёшь по городу, и дома то загораживают, то освобождают разные куски неба, полные пучков звёзд, получается местная городская музыка. А тут ещё и переменная облачность всякая, то и дело, засурдинивает отдельные группы инструментов, привнося туда различные по тонкости оттенки. А планеты, кометы, ближние и дальние, спутники других солнц, а метеориты, астероиды и прочие бесчисленные камешки безграничного концертного зала, – они вместе, подобно эху отражают свет, создавая этакой реверберацией великолепно слаженную акустику! Ну и красота! Волшебная! Босикомшин остановился, потрясённый вдруг ему одному во всём свете явленной небесной симфонией в фантастическом исполнении оркестра космического масштаба. Чудо! Но интересно, подумал он, а если бы и замечательный наш Млечный Путь не был слишком заслонён вездесущим космическим прахом, каково оказалось бы звучание? С ума сойти!
А неведомым стечением обстоятельств получилось так, что наш герой снова остановился, но уже точно в том же месте, где прежде поскользнулся и сделал угол, а потом передразнивал львов. На сей раз те же бронзовые хищники, приоткрыв рты и слегка закатив глаза вверх, тоже внимали музыке невидимого света.
– Да, – сказал Босикомшин львам, – и вы, значит, балдеете.
Потом счастливец сунул руку в карман и коснулся уже похолодевшего металла ключа. Мысль о звёздных звуках съехала с бороздки ума, заменяясь предшествующей заботой, хотя и совершенно неясной. Чужой ключ, неизвестно от чего, оттягивал карман, и тревога, чужеватая какая-то и тоже ему неизвестная, подобно той, атакующей его на троллейбусной остановке, оттягивала сердце. Вернуть бы золотистую железку, позабыть бы о заботах…
Хозяина ключа на спуске всё так же не виднелось. Площадка между львами по-прежнему зияла пустотой, и шёл от неё дух непреодолимого одиночества.
«Но не напрасно же я шёл, – подумал пешеход, сжимая и разжимая ключ на донышке накладного кармана пальто, – я ведь что-то слушал на ходу, такое слушал, чего раньше никогда не было ни в городе, ни на природе». Он ещё раз с силой сжал железный предмет, ощупывая невидимые на нём замысловатые бороздки и зубчики, и мысль продолжилась: «Не при помощи ли этой вещицы маг с чемоданом обделал всё слышимое мной? Не волшебный ли этот узор, вырезанный на нём? Да вдобавок ещё и передвигался маг по мосту мистической шаманской походкой да со странным на себе свечением! Не он ли устроил тут совершенно ненормальную музыку? Не этот ли ключ открывает незримый клад в небесах»? Летучая мысль его приостановилась и затухла. Взамен пришла другая: «с другой стороны, – подумал он, – в общем-то, нелепо ходить одной и той же дорогой взад-вперёд». Конечно. Сколько можно метаться и мыслью, и ногами? Теперь бы пройти до корня моста. Прошёл. Впереди светофор красный. Тогда – свернуть направо, ничего не дожидаясь. Пойти направо по левому берегу.
«Хм, нате вам, снова крылатый тип», – Босикомшина привлекло скульптурное изображение другого крылатого существа далеко наискосок – задунайского орла на обелиске «Румянцова победамъ», что в Соловьёвском саду. Тот медленно, почти незаметно парил над деревьями параллельно пешеходу, делая вид, будто дожидается, когда они окажутся вровень. И Босикомшин бодренько засеменил ногами вдоль берега реки вниз по течению, выразительно поводя плечами, намекая, будто поднимает за ними огромные невидимые крылья.
ГЛАВА 4
Профессора не пустили в амфитеатр, где находилось его излюбленное место в первом ряду у правой боковой стены. Не пустили, потому что зал оказался недостаточно заполненным и внизу. Вынужденно пришлось разместиться здесь, на диванах во втором ряду, но всё-таки у боковой стены. Левой. Партера профессор не любил.
Пока публичное пространство зала затягивало сообщество слушателей, на эстраду вокруг рояля выставляли скульптуры неясного художественного содержания на специальных подставках с проводами. Среди скульптур появилось ещё и кресло с живой девушкой в темно-зеленом бархате. Нашедшие места слушатели робко зааплодировали и быстро смолкли. Профессор вдумчиво разглядывал скульптуры, пытаясь разгадать их смысл. Но тому занятию помешала внезапно вышедшая постоянная ведущая Капеллы, и неизменно упругой интонацией, такой же, что и десятки лет назад, объявила о начале концерта сердцевинной музыки. Свет над местами слушателей не пригасили, так что эстрада особо и не проявлялась. Поэтому публика не заметила, когда на ней среди изваяний оказался автор. И сразу же началась заявленная сердцевинная музыка. Она возникла из лёгкого шума электродвигателей, подключённых к скульптурным произведениям искусства. Автор поднял руку, изваяния зашевелились, девушка в тёмно-зелёном произнесла поэтическое слово:
«Средь каменных трещин
дрожит родничок.
Водица трепещет
в кругах над ключом…»
Автор подходит к роялю, ногой нажимает педаль и, вытянуто наклоняя тело, обеими руками начинает теребить струны под крышкой. Освещённость зала последовательно изменяется, перекрёстно возникая от первых рядов к последним и от правых мест к левым, одновременно создавая несколько легкомысленные волны из световых всплесков вверх и прогибаемых затемнённостей вниз. Тут только профессор заметил, что свет в зале и с самого начала источался не из люстр, а от нарочно расставленных светильников по всему залу. Пока публика следила за волновыми перемещениями света, автор незаметно переместился к нормальному сидению пианиста и нормально заиграл, используя великолепно отлаженную механику рояля, в том числе и клавиатуру. Девушка, свет и скульптуры застыли, предвещая никем не ожидаемое событие. И действительно: музыка нарождалась в виде воображаемой огромной спирали и будто бы издалека. Затем она уже завивалась туже и туже, постепенно приближаясь и сужаясь, и дошла до единственного звука – пронзительного тремоло на ля первой октавы, будто давая точный звук для настройки невидимого оркестра. Четыреста сорок герц и семь ударов в секунду заполнили собой весь зал до отказа, в течение как бы затяжного вздоха, и – внезапно звук оборвался, медленно падая в абсолютную тишину подобно планирующему последнему листу с одинокого дерева поздней осенью. Публика начала было аплодировать отдельными хлопками в разных частях зала, но у всех на глазах опять зашевелились диковинные изваяния, и сызнова покатился свет. Автор поднялся и пальцами подёргал некоторые струны под крышкой рояля. Хлопки прекратились, а девушка продолжила представлять недоумённой публике тёмно-зелёные стихи.
«…И в звуковом Мальстреме
все пущенные стрелы
уносятся и попадают точно в цель…»
Профессору как-то не слушалось. Звуковой Мальстрем не затягивал внимание в точечную сердцевину. Похоже, и остальные слушатели цепко удерживались на креслах и диванах, соответствующих купленным билетам. Даже те из них, кто сидели в серёдке зала, тоже никуда не проваливались. Впрочем, нельзя ручаться за всех. Тем более что поимённо мы никого из публики не знаем, кроме нашего профессора. Кстати, а его-то у нас как зовут? А, ну да, Егорыч, так ведь, кажется, обращался к нему сосед по лестнице. Но, то отчество, к тому же явно искажённое. По-соседски: небрежно и ласково, почти по-родственному. Имея давнюю привычку к устному творчеству, обычно придумываются местные имена, для внутреннего пользования. И успешно применяются, не боясь обидеть. А те и не обижаются. Иногда, бывает, сделают кислое лицо, но не озлобляются. Терпят. Официально же профессору давным-давно установлены и зафиксированы (сначала в «метрике», а потом и в паспорте) фамилия, имя и отчество, которые он имеет по сию пору: Предтеченский Клод Георгиевич. Отец его, в общем, к французам не имеющий ни племенного, ни прочего генетического отношения, по-видимому, получил сильное впечатление от рождения сына. И то несравнимое впечатление сразу же, без промедления отпечаталось на новорожденном. Отец, очевидно, сразу разгадал в наследнике что-то импрессионистское: быть ему или художником, или композитором. (Подобно Мане или Дебюсси). Ну вот. А остальные люди, без выражения собственной личности сидящие в зале Капеллы, мы не знаем, кто они. Также не знаем, в какой мере энтузиазма и терпения принимается их нутром диковинный концерт сердцевинной музыки.
А что же автор и его сотрудники? Не случилось ли на плоскости эстрады новое, никем не предвиденное событие, пока мы отвлеклись на мысль о происхождении имени нашего героя? Оказывается, автор терзает под крышкой рояля неведому зверушку, в ответ издающую хриплые звуки, девушка укутывается в тёмно-зелёное, статуи колеблются различным манером. И продолжилось чтение художественного слова.
«…Густой фальцет,
далёкий гром,
набат колоколов и блеянье овечье…
…Кольцо в кольце,