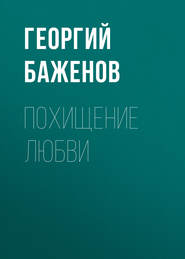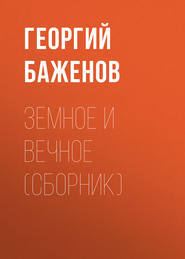По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Любина роща
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Желтая… – кивнул Валентин, и голос его прозвучал хрипло, приглушенно.
– Знаем… – снова проговорил Федька-инженер, продолжая работать, как продолжал свое дело и карлик, ни словом, ни жестом, правда, не выдавая своей сопричастности разговору. – Видал много раз… То ты тут ездишь, интересуешься, значит, кладбищем, а то жена твоя. С большим таким животом… Вот и замена будет ему, – кивнул он на могилу. – Ничего не поделаешь. Смерть – это смерть. А жить дальше надо…
«Правда, – подумал Валентин – может, так оно и будет…»
– Выпить у вас есть? – неожиданно спросил Валентин.
– Это само собой. А как же… – Видя, что подобрел хозяин, веселей, оживленней заговорил и Федька-инженер. Он вылез из могилы, вытащил из-за куста початую бутылку водки и каким-то горделивым жестом (ну а как же: не он у кого-то, а у него попросили!) плеснул Валентину и себе водки. Валентин взглянул на карлика.
– Не, это дохлый номер, – махнул на него рукой Федька-инженер. Карлик, действительно, даже не обернулся, продолжая работу.
Валентин с Федькой сидели на земле, на валявшемся неподалеку бревнышке. Выпили молча, лишь взглянув друг на друга. Закусывать было нечем, да и непривычно, видно, было это для Федьки-инженера.
– У меня тоже был сын, – сказал Федька растроганным голосом и на молчаливо-удивленный взгляд Валентина добавил: – Не, он жив. Он-то живой. Жена ушла от меня, зараза. И его забрала.
«Сравнил…» – подумал Валентин.
– Еще по маленькой?
Валентин согласно кивнул: от водки сделалось немного легче, будто рассосался какой-то комок внутри. Потом Федька-инженер сказал:
– Вот скажи, ты, кажется, человек интеллигентный. Умный на вид. Я тебя давно приметил…
Валентин внимательно слушал.
– Скажи, только честно: в чем смысл жизни?
– В детях, – не задумываясь, ответил Валентин и резко, будто стыдясь, что сидел здесь, поднялся с бревна. Поднялся и добавил: – Ладно, я пошел. Спасибо.
Валентин вышел из ворот кладбища, и ноги его невольно зашагали не домой, нет, а к пруду. Была там одна заветная у него поляна, на взгорке, с которой хорошо просматривалась и близкая, и дальняя округа, и среди всей этой красоты особенно хорош был купол церкви Всех Скорбящих, чисто и ровно отливающий золотой бронзой даже и в тусклые, совсем не солнечные дни. Валентин сидел на этом взгорке, смотрел, куда любил всегда смотреть, – на воду, на купол церкви, на распускающуюся листву деревьев, и вдруг ему показалось, как-то странно подумалось: а правда ли все, что случилось? Может, вернется он домой, а там в коляске мирно спит-посапывает Сережка, и все хорошо, никто и знать не знает ни о каком горе, черт побери, может, это только все наваждение, страшный сон? Он понимал, что наваждение – не то, не там, а здесь, с ним сейчас, действовала, видимо, водка, сглаживала боль и пустоту, и так не хотелось верить в горе, принимать его всерьез, жить и страдать им… Он смотрел вокруг, отчетливо видел все дорожки, по которым много раз возил сына в коляске, останавливался где-нибудь около пацанов с удочками, и бесхитростное их занятие всегда волновало его, потому что уносило в страну детства, в которой, сколько он помнил себя, главной мальчишечьей страстью была рыбалка. Он и теперь, посидев на взгорке, отправился к ватаге ребятишек, колдовавших над чем-то на берегу. А они, оказывается, мастерили плот. Он подошел к ним совсем близко, смотрел, как среди этих грязных, увлеченных делом пацанов уже есть главный, вожак, тот, за кем тянулись остальные, и Валентину невольно, с тяжелой болью подумалось, что, не случись смерти, а вырасти Сережка вот хоть до их возраста, до десяти-одиннадцати лет, он бы тоже мог так сидеть среди пацанов и, может, даже верховодил бы над ними… Но что об этом думать – теперь всё. Теперь бесполезно. Только травить себя. И Валентин, чтобы не застонать, опять стиснул зубы и пошел прочь. Он сделал два-три шага, и его вдруг нагнала Сашка, семилетняя девочка, которая тоже крутилась здесь среди ребят. У нее еще был маленький брат Димка, а жили они втроем с матерью в однокомнатной квартире, отец бросил их, уехал на Дон, завел новую семью, и когда Валентин прогуливался с Сережкой, Саша часто гуляла с Димкой, обычно оба грязные, неухоженные, мать крутилась на двух работах, чтобы свести концы с концами (от алиментов отец увиливал). И постепенно Саша с Димкой привязались к Валентину, ходили за ним и за коляской с Сережей, можно сказать, по пятам. Валентин научился разговаривать с Сашей; несерьезные, детские разговоры она не воспринимала, считала себя взрослой, была рассудительна, хитра, даже скупа, била Димку, если тот не слушался, лез в лужи, ковырял в носу, относилась к нему, как строгая мать к непутевому сыну: любила, но спуску не давала. Почему они привязались к Валентину, трудно сказать, может, он был единственный взрослый мужчина, который относился к ним хорошо и серьезно и поэтому в какой-то мере заменял им отца, его образ; во всяком случае, часто его даже принимали за отца троих детей и говорили вслед: «Такой молодой, а уже трое… молодец!» Иногда осуждали: «Дети грязней грязи, а этим отцам, конечно, хоть бы хны!» Иногда жалели: «Вот маеты-то, наверно, с тремя. Не приведи Господь!..» Саша догнала его, дернула за рукав.
– А Димка заболел, – сказала она, повесив голову.
– Что с ним?
– Воспаление легких. Я говорила: не снимай колготки. Он же вредный, не слушается, снял и в лужу залез. Теперь получил.
– Понятно.
– У вас Сережа умер? – спросила она, но как будто не спросила, а просто задумчиво произнесла, и на глазах у нее показались слезы.
Валентин не смог ничего ответить; только кивнул.
– Ну я пошла… – сказала она, но не отходила, стояла рядом.
– Иди, иди, – сказал Валентин.
– А маленьких на похороны пускают? – спросила она.
– Пускают, – кивнул он.
– До свиданья, – сказала она.
– До свиданья, моя хорошая, – проговорил он тихо-тихо. Он повернулся, пошел дальше, но так вдруг перехватило дыхание – невозможно шагу ступить. Остановился. Как же жить дальше, как жить?!.
Хоронить решили сегодня – был третий день после смерти. Стояли теплые дни, откладывать на завтра не рискнули. Но как же – сегодня? Сегодня – последний день? Сегодня – всё?
… Плач из их квартиры слышался далеко от дома. Впрочем, все в округе знали о горе этой семьи. Многие побывали в квартире, поглядели на Сережу…
Первый шаг он сделал в десять месяцев. Как раз вышли гулять, Валентин взял с собой фотоаппарат, а как иначе – сегодня день рождения Сережи, каждый месяц отмечали этот день, то торт, то шампанское, то просто семейный чай, но отмечали обязательно. Когда вышли из дома, видели, как мать наблюдала за ними с балкона. Наблюдала, прячась, не желая показывать, что они ее интересуют. Ссора была в самом разгаре, давно уже не разговаривали друг с другом. Даже не здоровались. Она, конечно, ждала, что они хоть о чем-то попросят ее, но они ни о чем не просили, вообще не обращали на нее внимания, как будто матери не существовало, и ей приходилось собирать в кулак всю свою выдержку, чтобы делать вид, что ее тоже никто и ничто не интересует. Жестокость и неприязнь были взаимные, а жить приходилось под одной крышей, в одной квартире – в материной квартире. Это-то и возмущало ее больше всего: ишь, гордые какие, а в квартире моей живут, своего ничего нет, а гонора – выше неба, ни стыда, ни совести…
Сережка был в красном комбинезоне, Валентин взял сына из коляски на руки и поставил на асфальт (асфальт местами был уже сухой – весна наступала бурно), придерживая за ручонку. Сережка смешно таращил глаза и больше всего боялся, как бы отец не отпустил руку.
– Стой, – строго сказал Валентин.
Сережа задрал голову, просительно взглянул на Любу и притворно захныкал.
– Стой! – еще строже приказал отец, и тут Сережа испугался его голоса, перестал скулить и настороженно-выжидательно уставился на отца.
Валентин попятился назад, метрах в трех-четырех присел на корточки, раскрыл футляр фотоаппарата. Люба стояла чуть в стороне, рядом с коляской, улыбаясь.
– Ну, иди сюда. Иди, – поманил Валентин сына. Сережка смотрел на него сердито, недовольно, перевел взгляд на Любу и снова жалобно заскулил: мама…
– Ну, кому сказал! – прикрикнул Валентин.
Дома, держась то за стул, то за диван, Сережка уже мог ходить, его заносило по сторонам, но рука была хваткая, и он цепко держался, не падал, только иногда чуть вращался вокруг своей оси – довольно потешная картина…
– Ну!
Сережка вдруг помотал головой. Это у него в первый раз получилось такое: нет, мол, не пойду, хоть убейте; Валентин с Любой, переглянувшись, рассмеялись. И именно в этот момент, будто обидевшись на родителей, Сережка сделал первый шаг. Они вытаращили глаза и разом, как по команде, перестали смеяться. Сережку качало. Он пытался удержаться, даже небольшой ветер и тот, казалось, был против него, но он все же держался. Стоял хмурый. Серьезный. Сосредоточенный. И вдруг беззащитно, хотя и хитро так посмотрел на родителей, улыбнулся, заверещал от удовольствия.
Валентин быстро навел на Сережку объектив, и сын, словно поняв отца, легко, широко шагнул во второй раз – Валентин щелкнул – и плюхнулся на асфальт, лицом вперед. Удивительно – не заплакал. Люба подхватила его, поставила на ноги и, как ни смотрел он на них умоляюще, отошла в сторону.
– Ну! – снова скомандовал Валентин.
Сережка на этот раз уже осторожно, тихонько сделал шаг, постоял, как бы убеждаясь, что ничего не случилось, и, чуть запрокинув голову, счастливо засмеялся. Потом так же осторожно, не торопясь, сделал еще шаг. Еще. А потом его понесло, он заперебирал ногами и опять – плюх, готов, лежит на асфальте. На этот раз расплакался – от обиды, наверное. Люба подхватила его на руки: «Ну, ну, не плачь, хороший мальчик, не плачь, мой молодец…» – и он успокоился, перестал хныкать.
…В этот день возвращались домой счастливые. Надо же: в десять месяцев – и уже пошел! Какое, в сущности, обычное событие, пустяк, но как они радовались ему!
Дома их встретила мать. Верней, столкнулась с ними в дверях, собралась куда-то уходить. Люба, видно, забылась, закричала в радости:
– Мама, он пошел! Представляешь, пошел сегодня! – и тут же осеклась.
В глазах матери, в лице тенью скользнуло мимолетное, еле заметное оживление, радость, но она – было видно – тут же взяла себя в руки, пересилила (и как позже жалела об этом!), сделала каменное, неприступное лицо и с гордым, независимым видом прошла мимо них. Хлопнула дверь: мать оказалась по ту сторону, они – по эту.
Собственно, ссоры как таковой, какой-то одной, решительной, перевернувшей все их отношения, не было. Все случилось само собой и неприметно. Между матерью и Любой произошла мелкая стычка, каких было тысячи в их жизни, но на этот раз стычка не окончилась примирением, как обычно, а постепенно переросла Бог знает во что… Кажется, мать перед обедом съела кусок хлеба, просто, видно, захотелось хлеба, намазала кусок маслом и съела, а Люба через несколько минут, собирая на стол, вслух удивилась:
– Надо же, только вчера вечером купила буханку, а уж снова надо в магазин бежать… – Она ничего не имела в виду, сказала просто, как часто вслух говорят хозяйки, перебирая в уме разные домашние заботы и хлопоты.