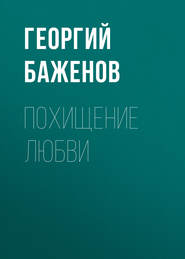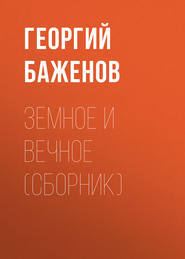По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Яблоко раздора. Уральские хроники
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Все как раньше, – улыбнулась Аня.
– Не иначе.
Чай был густой, пыхал жаром, так что чуть позвякивала крышка заварного чайника, а из носика к самому его окраешку подбирался, рвясь на свободу, фырча, пенисто-тугой янтарь заварки.
– Небось давно не пивала нашенского.
– Давно, мама.
– Я уж думаю, ну не едет Аня-то, не едет… Думаю, как мы тут одни.
– Приехала, мама.
– Это хорошо. Чего там – конешно, хорошо. – Старуха твердой рукой брызнула из чайничка по чашкам, ударило запахом смородиновой листвы.
– Чего-то там Алешка… взгляни-ка.
Но Аня уж и сама услышала, выскочила из кухни в большую комнату к сыну. И вот, когда взглянула на него, как бы замерла взглядом на его лице, у нее вдруг резко, больно кольнуло по левую руку, даже дыхание замерло, застряло где-то посреди груди… Алешка бормотал во сне – что, какие слова, не разобрать, да это и не важно, просто вот сейчас, в эти секунды Аня с обостренной болью почувствовала, разобралась, разглядела, насколько же Алешка – вылитый отец. Что он похож на него, это было понятно всегда, настолько понятно, что как-то даже и думать иной раз об этом не думаешь, а здесь – ну просто вылитый Кольша. И не потому боль, что – вылитый, а потому, что еще раз пронзила все существо мысль: нет Кольши, нет его, не-ет… Иные минуты – как смирение перед жизнью, а иные – задыхаешься, как подумаешь только, что же это такое – смерть… ну, навсегда… насовсем… на веки вечные… нет с ними Кольши. Нет. И никогда не будет. Тут мысль забирается в такие дали, что лучше бы и не возникать ей совсем, стон рвется из груди, руками обхватишь голову, а понимания, осмысления – нет.
Алешка бормочет что-то, а Аня в какую-то минуту вдруг осознает, что стоит, оказывается, рядом с ним, давит себе ладонями на виски.
Осознала это, поняла, опустила руки…
Вот и лоб – крутой, широкий, надбровья резкие – как у Кольши. И губы Кольшины – словно чуть обижены, выпячены вперед, мужские толстые губы. И брови, сдвинутые к переносице, будто он хмурится недовольно, тоже как у Ко дыни. И лопоухий, как отец.
– Ну, чего он тут еще? – шепотом спросила Петровна сзади. Ане не хотелось оборачиваться, выдавать себя, только рукой показала: тихо, мама, – и решила еще постоять, малость успокоиться.
Старуха подошла поближе.
– Ань.
Аня не оборачивалась…
– Ань, ну… Ты чего, а? Ты чего это?
И как только рука Петровны коснулась плеча Ани, у той брызнули из глаз слезы.
– Ну, ты што, Ань… што ты… пойдем… – Обняв ее, старуха так и стояла позади Ани, приглаживая ее волосы сухой своей, оказывается, совсем легкой ладошкой. – Вот еще… ну, ты што… вспомнилось-пригорюнилось?.. Ничего, ничего.
Плакать было нельзя – разбудишь Алешку. Аня и успокоилась, утихла мало-помалу.
Сели пить чай.
– Остыл уж, смотри-ка. – Петровна наново включила самовар. – Ты бы как-нито к Марье Ивановне зашла. К учительнице.
– Зайду, а как же, – все еще не поднимая глаз, но обрадованная начавшимся разговором, ответила Аня и отхлебнула чаю.
– Не жалобится, а и не похвалит особо. Молчит, говорит, все больше.
– Алешка-то?
– Алешка.
– Ничего, теперь заживем, смеяться будет. – Аня улыбнулась. – Подлей горяченько-го-то, мам.
– Во-от… – Старуха подлила в чашки свежего чайку. – Смеяться не смеяться, а покою б нам надо. Спокойства. Вот чего.
– Да ты не думай об этом, мам. Все равно пропишут.
– В том-то дело… Жить нам надо вместе. И чего они там никак не поймут?
– Да выдумывают разное…
– Мы дорогой-то, как возвращались, смотрим с Алешкой, Лидуха бежит.
– Ну да.
– Замуж вышла девка. Знаешь, нет?
– Ну? Смотри, и ей наконец счастье подвалило.
– Подвалило не подвалило, а носится нынче будь здоров. Семеюшка как зачалась, тут, девка, держись. Кормить семеюшку надо.
– Дело обычное.
– Я и говорю: Лид, забежала б когда. Говорит, когда-нито забегу. Порассказала я ей, какая у нас тут закавыка. Лидка-то девка башковитая, говорит, ежели не получится, надо опекуном меня, значит.
Аня перестала пить чай.
– Как опекуном?
– А так. Бумагу подать, поняла? Закон такой есть: опекуна прописывают. Тут уж не попрут противу закону. Прописывай – и на этом конец.
– Странно как-то, мама.
– Будет странно, коли ни в какую не идут. Поди докажи им.
– Ладно, мам, так или иначе, а все равно сделаем. Не беспокойся. Уладим.
Петровна поднялась, заглянула в большую комнату. Ноги у старухи окутывали синие вздувшиеся жилы, сарафан болтался, а шаг был тяжелым, шаркающим.
– Беспокоится што-то. Видать, может, заново мать поджидает, – улыбнулась Петровна.
– Ян сама не верю до сих пор, что дома, с вами.
– Навсегда приехала-то? – Старуха и сама не ожидала, что так грубо прозвучит ее слово. Осеклась.
– Мам, ну, ты скажешь тоже.