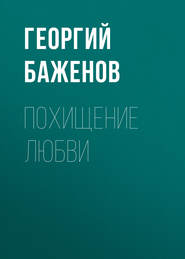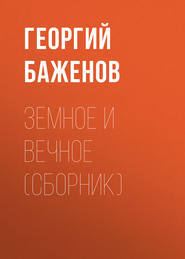По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Слово о неутешных жёнах (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Родная сестра Дуси – Мария – жила на соседней улице; Коляя она не признавала, ругала и Дусю, что вышла за такого пентюха замуж. Не особо привечала Коляя и мать Дуси с Марусей – Варвара Карповна, но той давно не было в живых, а Маруся была жива, ох, да еще как жива была, любила сытно поесть, красиво нарядиться да позубоскалить над людьми: эти не такие, те не этакие, третьи и вовсе обухом по голове пристукнутые…
– А в школу Гошик пойдет, так ты смотри – помогай ему, – наставляла Дуняшку мать. – Счету научи. Чтоб он дураком-то у нас не рос…
«Ничего, не вырастет, – обиженно-горячо думала Дуняшка. – Это Маруська твоя до десяти считает да в сарафаны наряжается, а Гоша умный будет, он вон кошек любит, собак, он у бабушки щенка не утопит…»
Мать Коляя, бабушка Таня, жила в деревне Красная Горка, в шести километрах от поселка Северный: жила одна, в старом, но довольно крепком еще доме. Каждое лето Коляй что-нибудь да делал для матери: то изгородь починит, то крыльцо обновит, то крышу подлатает, то печку-грубку прочистит. Ни Маруся, ни Дуся, ни Варвара Карповна, когда еще была жива, не любили бабушку Таню, та платила им тем же, но с одной разницей: зла им не желала и в жизнь их не вмешивалась. Бабушка Таня жила не только одиноко, но скудно, бедно, на отшибе, а Маруся знай языком молола: «У, старая ведьма, на золоте спит, золотом ублажается, а все дурочкой прикидывается. Был бы Коляй не пентюх, давно б свою мать растряс, так не то что Дуська, а и мы все в деньгах купались бы!..»
Ходило поверье, будто отец Коляя, дед Ефим, перед смертью отдал три золотых слитка жене, при этом сказал: «Запомни, кто видел – молчок, кто слышал – молчок». В Красной Горке то там, то тут до наших дней вдруг обнаруживались заброшенные демидовские шахты и прииски; и вот будто бы дед Ефим нашел однажды золото, нашел да умер, а золото отдал жене, бабке Татьяне. Маруська так не любила старуху, что однажды со зла утопила в бочке ее щенка, Антошку. Об этом знали в поселке многие; знала, конечно, и Дуняшка.
– А вернусь, – продолжала Дуся для дочери, – сразу на ферму пойду дояркой, ты тоже подрастешь, небось на шее сидеть не станешь, заживем не хуже прежнего…
«А папка в земле будет лежать, – закипая внутренними слезами, думала Дуняшка. – Как же, зажили не хуже прежнего… Е[ебось сколько папка зарабатывал, никогда не заработаем. А жить надо. Вон Гошка еще совсем под стол ходит…»
Кончился разговор с дочерью тем, что мать чуть не влепила ей оплеуху. Но вовремя одумалась. Уже когда замахивалась, Дуняшка вдруг подняла на мать глаза, посмотрела прямо в сердце зрачков, смело, отчаянно, и Дуся не решилась: будто парализовала ее какая-то властная сила.
– Смотри у меня! – только и пригрозила Дуся. – Чтоб все сделала, как сказала. Без фокусов!
Для Дуси, конечно, не было секрета, что Дуняшка не любила Марусю, а всей душой тянулась к бабушке Тане. На похоронах старуха ничего не сказала Дусе, ни словом, ни полсловом не попрекнула, а только когда закопали Коляя, старуха обняла Дуняшку, прижала к себе и вздохнула: «Коляй, Коляй… жил – не думал головой, помер – вовсе теперь думать не придется. А у тебя вон Дуняшка, Гошик… на кого их оставил?» Будто обвиняла Коляя, что он умер. Или как было понимать ее слова?
По вечерам, накормив детей и уложив их спать, Дуся Комарова подолгу сидела на высокой супружеской кровати, не решаясь расстелить ее, не решаясь разрушить грандиозную крепость из шести, мал мала меньше, подушек. Для кого теперь эта кровать? Эти подушки? Эти ночи? Как вообще свыкнуться с мыслью, что больше никогда не будет Коляя в жизни? Никогда. По лицу Дуси текли слезы. Руки плетьми свисали на подол платья. Волосы, красивые, черные в проседь волосы, растрепаны. Дуся не то что похудела, она иссохла. Когда-то мощные ее плечи опали, из-под выреза платья злобно торчали ключицы; бедра, недавно круглые, крепкие, казались теперь нелепыми, уродливыми – широкая кость осталась, а упругость, налитость исчезли как дым. Пышная грудь, когда-то такая же воинственная, как и характер хозяйки, неожиданно обвисла, ни один лифчик теперь не мог справиться с ней. Чего Дуся добивалась в жизни? Чего хотела? Из-за чего все годы воевала с Коляем?
Она не понимала. Она спрашивала себя и не понимала. Не могла понять. Все катилось само собой… Она нравилась мужикам – разве она виновата в этом? И Дуся хотела, чтоб Коляй свыкся с этой мыслью: она нравится мужикам, и с этим ничего нельзя поделать. Чтоб эта мысль не терзала его, не мучила. Наоборот, пусть гордится, что от взгляда на его жену мужиков в пот бросает. А что она иногда схлестывалась с ними – кто знает об этом? Никто. Разве что Павлуша Востриков. Но Павлуша – не человек, могила. Или Роман Слепнев? Но Роман был – и сплыл, и ни одна душа не знает, где правда, где неправда. Семка Петров? Ну и с ним просто так, нечаянно: покос, вечер, духмяный стог сена… Да и Семкин след давно простыл: уехал со своей бабой вон в какую даль – в брянские края… А когда детишки пошли – Дуняшка, Гошик, – совсем перестала… может, раз только – с Павлушей. Ну, да с ним не нарочно – по старой памяти, неудобно отказать было. А больше ни с кем. Вон уж сколько лет ни с кем. А ведь Коляй знал об этом, знал, но вот поди ты – мучился. И ее мучил. И вот – домучился…
Чего она хотела? Чего добивалась в жизни? Почему все годы воевала с Коляем?
Не могла теперь толком ответить.
Дуся повалилась на подушки и тихо-горько разрыдалась. Господи, чего б она теперь не сделала, останься только Коляй живой! Разве сказала бы ему когда-нибудь, что мать его – ведьма и жадная гнида? Разве стала бы слушать Марусю, которая повторяла изо дня в день: «Дурака своего не можешь тряхнуть хорошенько! Бабка его на золоте дрыхнет, а вы вон в домёшке поганом ютитесь!» Разве домик у них – поганый? За два лета срубил его Коляй с дружками, грыжу заработал, но просторную избу-пятистенок поставил, окнами на восток, на раннюю зарю, каждое утро, зимой ли, летом ли, а солнышко первым делом заглядывает к ним в окна, золотит подоконники, на которых даже в самые студеные зимние дни зацветала герань. И разве не он, Коляй, выложил своими руками русскую печь с чудными на ней полатями, где сколько раз прожаривались от любой простудной хвори падкие на болезни Дуняшка и Гошик? И разве не он, Коляй, ночи не спал, глаз не смыкал, когда Дуняшка, трехлетняя мученица, металась в жару от воспаления легких, и, случись с ней плохое, – чувствовалось, не жилец на свете и сам Коляй?
Как оглянешься на жизнь, так сразу видно: главой во всем был работящий, неприметный, не падкий на слова, безотказный и добрый Коляй. А все же кто командовал в доме? Кто все время покрикивал? Кто требовал денег? Постоянных обнов? Кто нещадно ругал и наказывал детей? Кто – прав или не прав – всегда стоял на своем? Она, Дуся. Это она все годы, что жили вместе, хотела поставить Коляя на такое место, загнать в такой угол, чтоб он не мог и слова пикнуть. А зачем? Почему? Сама теперь не знала. Нет, знала: хозяйкой хотела быть. Что сказала – закон. Что решила – то сделала. Что захотела – тому и быть.
И вот – добилась. Поставила на своем. Подрезала сук, на котором сидела. И детей в пропасть толкнула. И сама на дно покатилась. И Коляя в живых нет…
Ох! И залилась опять горемычными слезами Дуся… Если б все повернуть обратно! Уж она ли не стала бы ухаживать за своим Коляем? Уж она ли не сказала бы ему ни словечка обидного, злого? Уж она ли не топила бы ему баню по субботам да не приговаривала бы: «Сладкого жару тебе, Колюшка, легкого пару!» Уж она ли не стала бы носить ему на делянку горячий обед: «Ешь, муженек, ешь, золотой, из горячего чугуна борщ, из жаркой твоей печи навар!» Уж она ли не стала бы лелеять Дуняшку с Гошиком, уж она ли не сказала бы им: «Вон папка наш усталый идет! Бросьтесь, детки, поцелуйте кормильца нашего, попригладьте ему вихры непослушные!»
В слезах, в горе так и забывалась Дуся на супружеской кровати, повалившись лицом на подушки, не раздевшись, не разувшись.
А за три дня до суда пропала из дома Дуняшка. Поначалу Дуся не хватилась ее – нет и нет, мало ли куда вышла, а потом Гошка перед обедом хитро так прищурился. Но молчит.
– Где Дуняшка-то? – спросила его мать.
– В лес убежала, – признался Гошик.
Он дал клятву себе: ни за что не скажет матери, а как только спросила – сразу и признался: тайна распирала его.
– В какой еще лес? – охнула Дуся.
– Вон в наш, – показал Гошик. – Волком жить будет.
– Ты чего такое мелешь?.. – Ноги у Дуси подкосились: она невольно села на стул.
– Дуняшка сказала: в лес убегу. Пусть там меня волки съедят.
– Господи… – подхватилась Дуся. – Да что же это… – И бросилась вон из избы.
До позднего вечера искали Дуняшку. На Высоком Столбу были, в Красной Горке, у Раскуихи, на Чусовой, на Лавах, к Северушке ходили – нигде не было Дуняшки. На вырубки, где Коляй работал, Дуся бегала сама. Главное, там сказали, сам Герасим, бригадир, сказал:
– Точно, была Дуняшка.
– Да что сказала-то? Куда пошла? – ревела Дуся.
– Еды нам принесла. Вон, пирогов, говорит, поешьте. Папку помяните.
– Каких пирогов? – не понимала зареванная Дуся.
– С луком зеленым да яйцами. Сама, говорит, напекла. Папку помяните.
– Ну, так и есть, – ревела Дуся. – Убежать надумала. Пирогов напекла. Куда она? Ведь пропадет…
– А ты на кладбише была? – спросил Герасим; бригада его, пять человек лесорубов, смотрела на Дусю хмуро. Они ее не жалели – они Коляя любили, его и жалели. И Дуняшку жалели.
– Нет, не была, – встрепенулась Дуся.
– То-то и дура баба, – покачал головой Герасим. – Ты на кладбище загляни.
И точно – прибежала туда Дуся, Дуняшка сидит на могиле, в ногах у отца, и не плачет, а шепчет что-то, будто разговаривает с ним о сокровенном, больном.
Дуся не вскрикнула, нет, обвалилась плечом на сосну, прикрыла обезумевшие за день глаза ладонью.
Сколько-то минут вот так и прошло.
Потом Дуся не выдержала, сказала тихо:
– Домой пошли. Ты что это?..
Дуняшка испуганно, враждебно оглянулась.
– Домой, домой пошли… – повторила Дуся.
– Выглядела, да? – И Дуняшка от обиды заплакала.
Мать подошла к ней, взяла за руку. Во вторую руку Дуняшка подхватила узелок (там были пироги, банка с водой, нож и компас).
– Ты что же это, – говорила Дуся, обморочными ногами идя тропинкой кладбища, – убежишь, меня посадят, а Гошик помрет?
– Не помрет. Найдутся добрые люди.
– Ему ты нужна.