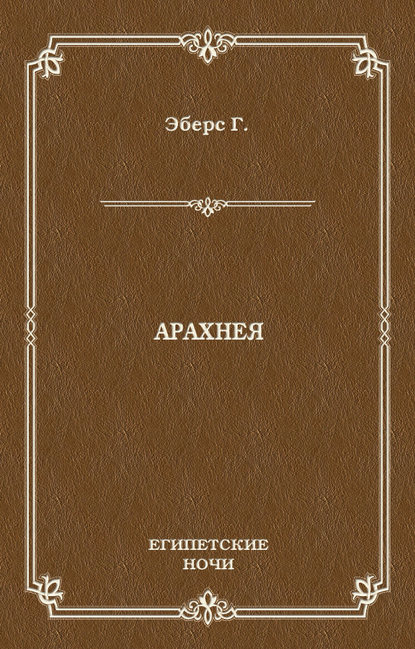По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Арахнея
Автор
Серия
Год написания книги
1897
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Нежно стала она шептать ей слова утешения до тех пор, пока Ледша не подняла свое мокрое от слез лицо. Повинуясь какому-то невольному желанию поцеловать огорченную девушку, старуха наклонилась к ней; при этом движении медная чаша скатилась с ее колен и со звоном упала на глиняный пол. В ужасе вскочила Ледша, и в то же время раздался в ночной тишине страшный лай своры собак, привезенных в Теннис дочерью Архиаса. Лай их был так громок, что даже глухая Табус услыхала его. А Ледша поспешно вышла из жилища и, сейчас же вернувшись, закричала старухе:
– Они идут!
– Они, они, – заволновалась та, стараясь пригладить и запрятать под покрывало свои седые растрепанные волосы.
Еле слышным от радостного волнения голосом она продолжала:
– Я это знала; он сдержал свое слово, мой дорогой Сатабус. Скорей, скорей, дитя, утки, хлеб, рыбу. Мой добрый сын!
На скудно освещенный пол упала широкая длинная тень, и с порога раздался своеобразный, отрывистый и радостный смех.
– Сатабус, мой сын, мой мальчик! – воскликнула старуха.
– Мать! – громким криком отвечал ей седобородый пират. И с распростертыми объятиями пошел он навстречу горячо любимой матери, которую не видал более двух лет, бросился перед ней на колени и своими сильными руками приподнял маленькую сгорбленную старуху.
Она левой рукой обняла грубую шею сына, а правой гладила ему щеки, лоб и густые, почти белые волосы. То, что срывалось с их губ в первые минуты свидания, были не слова, а какие-то, едва ли кому понятные, восклицания. И все же они были понятны матери и сыну, и даже Ледша, стоявшая поодаль, сознавала, что эти отрывистые, невнятные, малозначащие восклицания исходят от избытка сердечных чувств, волнующих этих двух столь близких людей. Невольно при взгляде на них чувство зависти сжало ее сердце. Боги так рано лишили ее матери, а этому седому дикому борцу против собственности, права и закона сохранили ее, и он мог согревать свое суровое сердце теплой материнской любовью. Прошло довольно много времени, прежде чем старый морской разбойник выпустил мать из объятий и сел возле нее, у очага. Тут только вернулась к Табус способность выражаться понятными словами, несмотря на трудность, с которой она говорила из-за почти парализованного языка. Целые потоки нежных и благодарственных слов полились из ее уст, и, казалось, она видела вновь в суровом, в кровавых битвах поседевшем сыне то маленькое существо, которое она когда-то носила на руках и прижимала к своей груди. Так же нежно и любовно отвечал он ей. Глаза ее наполнились слезами радости, и она спросила его, что ему в ней, такой слабой, ни на что не годной старушонке, живущей только изо дня в день в тягость себе и другим. Он рассмеялся и глубоко тронутым голосом произнес:
– Не будь тебя, кто был бы тем звеном, которое соединит нас всех на наших кораблях? Самая богатая добыча не стоила бы в наших глазах и драхмы, не думай мы про себя, как порадуется за нас мать, когда узнает о ней. А в трудное время, когда нам приходится плохо, когда мы ранены или когда кто-нибудь из нас погиб, насколько легче становится при мысли, что у старухи матери найдутся для каждого из нас слова жалости, слова утешения! А в минуту страшной опасности, когда вся жизнь поставлена на ставку, когда все зависит от одного отважного шага, кто бы из нас на него решился, не знай мы, что ты душой и сердцем день и ночь с нами и что ты пошлешь нам на помощь духов, повинующихся тебе. Много раз поспевала их помощь вовремя и помогала нам отрубить неприятельскую руку, уже душившую нас. Но все, что я только что сказал, не самое главное; без всего этого можно было бы как-нибудь обойтись. Самое же главное, что у нас еще есть мать, сердце которой желает нам всего лучшего, а врагам нашим – смерть и погибель, и что вот эти самые старые глаза будут проливать слезы по каждому из нас. Вот самое главное, что мы имеем в тебе, матушка, и чем ты нам необходима.
Произнося последние слова, он наклонился к старухе и нежно, бережно, точно опасаясь причинить ей боль, поцеловал ее в голову. Затем подошел он к Ледше, в которой все еще видел невесту убитого сына, и дружески приветствовал ее. Необыкновенная красота девушки, поразившая его, еще больше укрепила в нем желание видеть ее женой Ганно, его второго сына, только что вошедшего в дом. Молодой пират не уступал отцу ростом, но черты лица его были тоньше и красивее, а волосы и борода были блестящего черного цвета. В смущении остановился юноша, глядя на Ледшу с нескрываемым восхищением; она показалась ему красивее, чем представлялась в его воспоминаниях. В последний раз, когда они виделись, она была невестой его брата, и обычай страны запрещал ему думать о ней, смотреть на нее. Но когда после смерти брата ничто больше не препятствовало думать о ней, она стала представляться ему самой красивой из всех виденных им женщин, и в сердце его все больше и больше росло желание сделать ее своей женой. Никому, даже брату своему Лабаю, не говорил он о своем намерении. Замкнутый и скрытный, он хотя и повиновался всегда отцу, но, где было только возможно, поступал по-своему.
Несмотря на желание видеть Ледшу женой сына, Сатабуса рассердило то, что вид красивой девушки заставил Ганно как бы забыть о присутствии бабушки. Сильной рукой схватил он за плечо молодого великана и повернул его к ней. Ганно тотчас же понял свою вину и, приблизившись к бабушке, в кратких, но сердечных словах выразил, как он рад ее видеть. С гордостью и любовью смотрела Табус на мужественную фигуру внука, затем, обратившись к Ледше, она сказала:
– Точно Абус встал из могилы!
Молодая девушка, занятая приготовлением рыбы, быстро взглянула на брата умершего жениха и отвечала:
– Да, он напоминает его.
– Не только наружностью, но и храбростью, – заметил с отцовской гордостью старый пират и, указывая на широкий шрам на лбу сына, продолжал, как бы поясняя: – Этот знак отличия получил он, мстя за брата. Будь удар немного сильнее, молодец отправился бы вслед за братом, к которому он перед тем отправил с полдюжины неприятельских душ на поклон.
При этих словах Ледша протянула Ганно руку и дозволила ему удержать ее в своей, пока страстный взгляд его черных очей, встретившись с ее глазами, не заставил ее покраснеть и отдернуть руку.
Указывая на рыбы, она сказала Табус:
– Они готовы, их можно жарить; а тут ты найдешь все, что тебе нужно; я же должна вернуться домой.
Прощаясь, она спросила мужчин, может ли надеяться застать их здесь и завтра.
– Пожалуй, будет слишком светло во время полнолуния, – отвечал отец, – хотя вряд ли решатся нарушить наше право убежища, а корабли под видом торговых вошли с грузом дерева в полном порядке в гавань Тенниса и стоят там на якоре. Кроме того, власти думают, что мы совсем покинули здешние воды и, наверно, не выберем для нашего возвращения таких светлых ночей. Все же я не могу сказать ничего утвердительного, пока не повидаю Лабайя, стоящего теперь на часах на нашем корабле.
– Меня-то ты найдешь здесь во всяком случае, что бы ни случилось, – уверил ее Ганно.
Табус быстро обменялась взглядом с сыном, и тот сказал:
– Он сам себе господин. Если мне придется покинуть остров, ты, девушка, должна будешь удовольствоваться моим молодцом. И то правда, что ты ему больше подходишь, чем мне, седобородому.
Он, улыбаясь, подал руку Ледше, а Ганно пошел ее проводить до челнока. Он шел молча некоторое время, но, когда молодая девушка приблизилась к лодке, он повторил ей обещание дожидаться ее здесь завтра.
– Хорошо, – быстро сказала она, – и я, быть может, дам тебе поручение.
– Я в точности исполню его, – ответил он твердо.
– Итак, до завтра, если меня не задержит что-либо необычайное.
Сидя уже с веслом в руке, обернулась она еще раз к нему и спросила:
– Сколько нужно тебе времени, чтобы провести сюда твой корабль с горстью храбрецов?
– Четыре часа, а при благоприятном ветре еще меньше, – был ответ.
– Даже против воли твоего отца?
– Даже если б все боги, какие только существуют, запретили мне это, и тогда бы я это сделал, знай я только, что заслужу твою благодарность.
– Да, ты ее заслуживаешь, – ответила она.
И тихий плеск воды раздался в ночной тишине.
V
На северной оконечности городка Тенниса, у самой воды, на площади, поросшей травой, возвышалось большое белое, лишенное всяких украшений здание. Обращенная на юг сторона была окружена дамбой из тесаных камней, которая защищала здание от воды. Архиасу, владельцу больших ткацких мастерских и отцу знатной девушки, приехавшей вчера из Александрии, принадлежала обширная площадь и белое здание на ней. Оно было выстроено как склад для громадных запасов льна и шерсти, а также для тканей, выделываемых его ткачами. Вначале оно, казалось, вполне соответствовало своему назначению, так как корабли, привозившие сырье в Теннис, могли прямо здесь разгружаться. Но здания ткацких мастерских находились на большом расстоянии от складов, приходилось затрачивать много времени и труда для перевозки материала; тогда Архиас провел канал к ткацким мастерским, и корабли стали подвозить товары прямо туда, избегая таким образом двойной перевозки. Белый дом оставался без определенного назначения до тех пор, пока владелец не решил предоставить его обширное помещение своим племянникам, скульпторам Мертилосу и Гермону, дабы они могли там работать над двумя произведениями, с исполнением которых были связаны для художников большие надежды и ожидания. В этом обширном здании, заключавшем теперь мастерские и жилые комнаты скульпторов и их рабов, можно было найти помещение и для дочери Архиаса и ее прислуги. Но Дафна, узнав от художников, что крысы, мыши и другие столь же приятные животные разделяли с ними их жилище, предпочла разбить на обширной площади палатки и разместиться в них. Эта площадь, палимая солнцем, песчаная, кое-где покрытая выжженной травой, носила громкое название сада благодаря трем пальмам, небольшому количеству рожковых деревьев, нескольким фиговым кустам и ветвистому сикомору; теперь же она приняла нарядный и живописный вид. Большая палатка Дафны, белая с голубыми полосами, заключала в себе ее роскошно убранную приемную и столовую; в соседней, меньшей, была устроена спальня, которую разделяла с ней ее компаньонка Хрисила, а в третьей помещалась кухня с поваром и его помощниками.
Егеря, доезжачие и невольники разместились в повозках, а многие из них ночевали под открытым небом около наскоро устроенной псарни, и до того времени пустынный сад превратился в пестрый и шумный лагерь. Утром на другой день неожиданного приезда дочери Архиаса, задолго до восхода солнца, рабы и вольноотпущенные были на ногах. Дафна назначила для охоты тот ранний час, когда пернатые обитатели островов начинают покидать гнезда и чащи кустов. Ее двоюродные братья, скульпторы, желая ей угодить, отправились с ней, но охота продолжалась недолго, и в то время, когда теннисский рынок был в полном разгаре, челноки охотников пристали к берегу. С ними приехали биамитские лодочники и рыбаки, служившие им проводниками и знавшие места выводков. Коричневые, с белыми подпалинами, собаки выскочили из лодок и с громким лаем, отряхиваясь от воды, побежали к палаткам. Темнокожие рабы понесли к белому дому добычу; они положили на ступенях у входных дверей несколько рядов крупных птиц. Стрелы Дафны положили на месте всех этих птиц, так, по крайней мере, говорили ловчие, хотя и подозревали, что главный егерь присоединил к добыче госпожи несколько пеликанов и грифов, убитых другими. Прежде чем удалиться в свою палатку, Дафна осмотрела их и осталась очень довольна результатом охоты. Она слыхала раньше о несметном количестве птиц, населяющих эти острова, но число убитых птиц превышало даже самые большие ее ожидания; ее голубые глаза радостно заблистали при виде того, какая богатая добыча досталась на ее долю за такое сравнительно короткое время, но сейчас же тень неудовольствия проскользнула на ее выразительном лице. Запах этих птичьих тушек, на которые уже падали лучи полуденного солнца, неприятно поразил ее, и какое-то чувство недовольства, в котором она не могла отдать себе отчета, заставило ее от них отвернуться. Ее движения были полны благородства и прирожденной грации. Высокий чернобородый Гермон с нескрываемым восхищением художника оглядел ее прекрасно сложенную фигуру. Легкая полнота форм и решительная поступь заставляли принимать ее скорее за молодую женщину, нежели за девушку, но оба художника, близкие к ней с детства, знали, сколько скрывалось скромности и сердечной доброты под самостоятельным и решительным видом этой двадцатидвухлетней девушки. Белокурый Мертилос, казалось, не обращал ни малейшего внимания на убитых птиц, которых считал домоправитель Архиаса, вифиниянин Грасс. Гермон смотрел на них очень внимательно и, в то время как Дафна собиралась удалиться, воскликнул тоном недовольства, указывая на безжизненных обитателей воздуха:
– Да будет стыдно нам, людям! Желал бы я знать, может ли самая кровожадная гиена за несколько часов уничтожить столько живых существ! Дикие звери не в состоянии убить даже несчастного воробья после того, как утолили свой голод. А мы! Ты, мягкосердная, жрица доброй богини, и мы, друзья муз, поступаем иначе. Смотри, целая гора мертвых тел, и что с ними станется? Несколько гусей и уток попадут на твою кухню, другие же, например, розовато-красные фламинго, великодушные пеликаны, кормящие своих детенышей собственной кровью, они все годятся только на то, чтобы их выбросить, потому что биамиты не едят птиц, убитых стрелами, и даже твои черные рабы откажутся их попробовать. Итак, мы уничтожаем сотни жизней для времяпрепровождения. Какой позор! Как будто у нас так много лишних часов до того времени, когда нас примет мрачный Аид в свое царство теней. Какой-нибудь звериный философ имел бы полное право сказать нам: «Стыдись, кровожадное чудовище!»
– Стыдись ты, вечно недовольный, – прервала его обиженная Дафна. – Кто когда-либо находил жестоким убивать бессмысленных тварей на веселой охоте с целью развить зоркость зрения и верность руки? Но как должна я назвать того, кто своими едкими упреками испортил мне, своей приятельнице, все удовольствие от весело проведенного утра?
Гермон пожал плечами и тоном скорее сожаления, нежели порицания сказал:
– Если тебе нравится эта масса трупов, то продолжай твои убийства; ты можешь даже сохранять свои стрелы и ловить руками кишащую здесь дичь. Будь твои жертвы людьми, кто знает, быть может, они были бы тебе очень благодарны, ибо что такое жизнь?
– Для этих-то жизнь есть все, – заговорил Мертилос, которого Дафна взглядом как бы просила прийти на помощь, и, обращаясь к ней, он продолжал: – Ты знаешь, как охотно я везде и всюду беру твою сторону, в данном же случае не могу этого сделать. Посмотри только сюда, твоя стрела раздробила этому морскому орлу крыло; он только что очнулся. Что за прекрасная птица, как блестит его глаз, полный злобы и жажды мести! Как протягивает он в своей бессильной злости к нам голову и… отойдя назад, с какой силой воли, несмотря на боль в простреленном крыле, расправляет он другое и подымает свою тяжелую лапу с сильными когтями! Красиво сверкает и переливается его оперение там, где оно ложится гладью, и как грозно оно раздулось на его шее! А те, другие, тут же подле него! В безжизненную, никуда не годную массу превратили мы их, а давно ли они ударами своих могучих крыльев прорезали воздух и громким радостным криком возвещали птенцам в гнездах о своем возвращении с кормом? Наслаждением для глаз была каждая из них, пока наша стрела не настигла ее, а теперь? Если Гермон с его сострадательным сердцем осуждает такую охоту, он вполне прав. Она отнимает у свободных невинных существ то, что у них есть самого лучшего, – их жизнь, а нас лишает приятного, красивого зрелища. В общем, я считаю, что жизнь птицы не стоит многого, но я, как и ты, ставлю красоту выше всего. Что была бы наша жизнь, не будь ее? И где бы и в чем бы ни проявлялась красота, уничтожать ее, по-моему, безбожно.
Тут молодого художника прервал припадок кашля, который, как и влажный блеск его голубых глаз, указывал на болезнь легких. Дафна, кивнув утвердительно обоим скульпторам, отдала приказание домоправителю Грассу убрать с глаз долой убитых птиц.
– Быть может, – заметил вифиниянин, – госпожа дозволит отрезать у пеликанов часть их крепкого клюва, а у фламинго и хищных птиц их маховые перья и по возвращении домой показать их господину нашему как трофеи охоты?
– Трофеи, – повторила Дафна презрительно. – Ты, Гермон, лучше меня, лучше нас всех, и я сознаюсь, что ты прав. Где дичь летит в таком количестве навстречу твоим стрелам, там охота становится убийством, и при таких легко достигаемых успехах теряется удовольствие, которое охота могла бы доставить. Назначенная после заката солнца вечерняя охота отменяется, Грасс. Заведующий охотой, вместе с егерями и собаками, может сегодня же отправляться на грузовых судах домой. Я не буду больше здесь охотиться. Одних хищных птиц можно и должно было бы здесь уничтожать.
– Им-то я и желаю больше всего сохранить жизнь, – прервал ее Гермон, смеясь, – потому что они лучше всего умеют ею пользоваться.
– Ну, так сохраним мы ее, по крайней мере, этому морскому орлу! – вскричала Дафна и приказала домоправителю позаботиться о раненой птице.
Когда же орел сильно ударил клювом взявшего его биамита, Гермон повернулся к молодой девушке и сказал ей:
– От имени орла благодарю тебя, несравненная, за твое доброе побуждение, но боюсь, что этому раненому не поможет даже самый тщательный уход, потому что, чем выше стремится он, тем вернее погибает, когда его сила и энергия разбиты. Вот и моя энергия очень пострадала.
– Они идут!
– Они, они, – заволновалась та, стараясь пригладить и запрятать под покрывало свои седые растрепанные волосы.
Еле слышным от радостного волнения голосом она продолжала:
– Я это знала; он сдержал свое слово, мой дорогой Сатабус. Скорей, скорей, дитя, утки, хлеб, рыбу. Мой добрый сын!
На скудно освещенный пол упала широкая длинная тень, и с порога раздался своеобразный, отрывистый и радостный смех.
– Сатабус, мой сын, мой мальчик! – воскликнула старуха.
– Мать! – громким криком отвечал ей седобородый пират. И с распростертыми объятиями пошел он навстречу горячо любимой матери, которую не видал более двух лет, бросился перед ней на колени и своими сильными руками приподнял маленькую сгорбленную старуху.
Она левой рукой обняла грубую шею сына, а правой гладила ему щеки, лоб и густые, почти белые волосы. То, что срывалось с их губ в первые минуты свидания, были не слова, а какие-то, едва ли кому понятные, восклицания. И все же они были понятны матери и сыну, и даже Ледша, стоявшая поодаль, сознавала, что эти отрывистые, невнятные, малозначащие восклицания исходят от избытка сердечных чувств, волнующих этих двух столь близких людей. Невольно при взгляде на них чувство зависти сжало ее сердце. Боги так рано лишили ее матери, а этому седому дикому борцу против собственности, права и закона сохранили ее, и он мог согревать свое суровое сердце теплой материнской любовью. Прошло довольно много времени, прежде чем старый морской разбойник выпустил мать из объятий и сел возле нее, у очага. Тут только вернулась к Табус способность выражаться понятными словами, несмотря на трудность, с которой она говорила из-за почти парализованного языка. Целые потоки нежных и благодарственных слов полились из ее уст, и, казалось, она видела вновь в суровом, в кровавых битвах поседевшем сыне то маленькое существо, которое она когда-то носила на руках и прижимала к своей груди. Так же нежно и любовно отвечал он ей. Глаза ее наполнились слезами радости, и она спросила его, что ему в ней, такой слабой, ни на что не годной старушонке, живущей только изо дня в день в тягость себе и другим. Он рассмеялся и глубоко тронутым голосом произнес:
– Не будь тебя, кто был бы тем звеном, которое соединит нас всех на наших кораблях? Самая богатая добыча не стоила бы в наших глазах и драхмы, не думай мы про себя, как порадуется за нас мать, когда узнает о ней. А в трудное время, когда нам приходится плохо, когда мы ранены или когда кто-нибудь из нас погиб, насколько легче становится при мысли, что у старухи матери найдутся для каждого из нас слова жалости, слова утешения! А в минуту страшной опасности, когда вся жизнь поставлена на ставку, когда все зависит от одного отважного шага, кто бы из нас на него решился, не знай мы, что ты душой и сердцем день и ночь с нами и что ты пошлешь нам на помощь духов, повинующихся тебе. Много раз поспевала их помощь вовремя и помогала нам отрубить неприятельскую руку, уже душившую нас. Но все, что я только что сказал, не самое главное; без всего этого можно было бы как-нибудь обойтись. Самое же главное, что у нас еще есть мать, сердце которой желает нам всего лучшего, а врагам нашим – смерть и погибель, и что вот эти самые старые глаза будут проливать слезы по каждому из нас. Вот самое главное, что мы имеем в тебе, матушка, и чем ты нам необходима.
Произнося последние слова, он наклонился к старухе и нежно, бережно, точно опасаясь причинить ей боль, поцеловал ее в голову. Затем подошел он к Ледше, в которой все еще видел невесту убитого сына, и дружески приветствовал ее. Необыкновенная красота девушки, поразившая его, еще больше укрепила в нем желание видеть ее женой Ганно, его второго сына, только что вошедшего в дом. Молодой пират не уступал отцу ростом, но черты лица его были тоньше и красивее, а волосы и борода были блестящего черного цвета. В смущении остановился юноша, глядя на Ледшу с нескрываемым восхищением; она показалась ему красивее, чем представлялась в его воспоминаниях. В последний раз, когда они виделись, она была невестой его брата, и обычай страны запрещал ему думать о ней, смотреть на нее. Но когда после смерти брата ничто больше не препятствовало думать о ней, она стала представляться ему самой красивой из всех виденных им женщин, и в сердце его все больше и больше росло желание сделать ее своей женой. Никому, даже брату своему Лабаю, не говорил он о своем намерении. Замкнутый и скрытный, он хотя и повиновался всегда отцу, но, где было только возможно, поступал по-своему.
Несмотря на желание видеть Ледшу женой сына, Сатабуса рассердило то, что вид красивой девушки заставил Ганно как бы забыть о присутствии бабушки. Сильной рукой схватил он за плечо молодого великана и повернул его к ней. Ганно тотчас же понял свою вину и, приблизившись к бабушке, в кратких, но сердечных словах выразил, как он рад ее видеть. С гордостью и любовью смотрела Табус на мужественную фигуру внука, затем, обратившись к Ледше, она сказала:
– Точно Абус встал из могилы!
Молодая девушка, занятая приготовлением рыбы, быстро взглянула на брата умершего жениха и отвечала:
– Да, он напоминает его.
– Не только наружностью, но и храбростью, – заметил с отцовской гордостью старый пират и, указывая на широкий шрам на лбу сына, продолжал, как бы поясняя: – Этот знак отличия получил он, мстя за брата. Будь удар немного сильнее, молодец отправился бы вслед за братом, к которому он перед тем отправил с полдюжины неприятельских душ на поклон.
При этих словах Ледша протянула Ганно руку и дозволила ему удержать ее в своей, пока страстный взгляд его черных очей, встретившись с ее глазами, не заставил ее покраснеть и отдернуть руку.
Указывая на рыбы, она сказала Табус:
– Они готовы, их можно жарить; а тут ты найдешь все, что тебе нужно; я же должна вернуться домой.
Прощаясь, она спросила мужчин, может ли надеяться застать их здесь и завтра.
– Пожалуй, будет слишком светло во время полнолуния, – отвечал отец, – хотя вряд ли решатся нарушить наше право убежища, а корабли под видом торговых вошли с грузом дерева в полном порядке в гавань Тенниса и стоят там на якоре. Кроме того, власти думают, что мы совсем покинули здешние воды и, наверно, не выберем для нашего возвращения таких светлых ночей. Все же я не могу сказать ничего утвердительного, пока не повидаю Лабайя, стоящего теперь на часах на нашем корабле.
– Меня-то ты найдешь здесь во всяком случае, что бы ни случилось, – уверил ее Ганно.
Табус быстро обменялась взглядом с сыном, и тот сказал:
– Он сам себе господин. Если мне придется покинуть остров, ты, девушка, должна будешь удовольствоваться моим молодцом. И то правда, что ты ему больше подходишь, чем мне, седобородому.
Он, улыбаясь, подал руку Ледше, а Ганно пошел ее проводить до челнока. Он шел молча некоторое время, но, когда молодая девушка приблизилась к лодке, он повторил ей обещание дожидаться ее здесь завтра.
– Хорошо, – быстро сказала она, – и я, быть может, дам тебе поручение.
– Я в точности исполню его, – ответил он твердо.
– Итак, до завтра, если меня не задержит что-либо необычайное.
Сидя уже с веслом в руке, обернулась она еще раз к нему и спросила:
– Сколько нужно тебе времени, чтобы провести сюда твой корабль с горстью храбрецов?
– Четыре часа, а при благоприятном ветре еще меньше, – был ответ.
– Даже против воли твоего отца?
– Даже если б все боги, какие только существуют, запретили мне это, и тогда бы я это сделал, знай я только, что заслужу твою благодарность.
– Да, ты ее заслуживаешь, – ответила она.
И тихий плеск воды раздался в ночной тишине.
V
На северной оконечности городка Тенниса, у самой воды, на площади, поросшей травой, возвышалось большое белое, лишенное всяких украшений здание. Обращенная на юг сторона была окружена дамбой из тесаных камней, которая защищала здание от воды. Архиасу, владельцу больших ткацких мастерских и отцу знатной девушки, приехавшей вчера из Александрии, принадлежала обширная площадь и белое здание на ней. Оно было выстроено как склад для громадных запасов льна и шерсти, а также для тканей, выделываемых его ткачами. Вначале оно, казалось, вполне соответствовало своему назначению, так как корабли, привозившие сырье в Теннис, могли прямо здесь разгружаться. Но здания ткацких мастерских находились на большом расстоянии от складов, приходилось затрачивать много времени и труда для перевозки материала; тогда Архиас провел канал к ткацким мастерским, и корабли стали подвозить товары прямо туда, избегая таким образом двойной перевозки. Белый дом оставался без определенного назначения до тех пор, пока владелец не решил предоставить его обширное помещение своим племянникам, скульпторам Мертилосу и Гермону, дабы они могли там работать над двумя произведениями, с исполнением которых были связаны для художников большие надежды и ожидания. В этом обширном здании, заключавшем теперь мастерские и жилые комнаты скульпторов и их рабов, можно было найти помещение и для дочери Архиаса и ее прислуги. Но Дафна, узнав от художников, что крысы, мыши и другие столь же приятные животные разделяли с ними их жилище, предпочла разбить на обширной площади палатки и разместиться в них. Эта площадь, палимая солнцем, песчаная, кое-где покрытая выжженной травой, носила громкое название сада благодаря трем пальмам, небольшому количеству рожковых деревьев, нескольким фиговым кустам и ветвистому сикомору; теперь же она приняла нарядный и живописный вид. Большая палатка Дафны, белая с голубыми полосами, заключала в себе ее роскошно убранную приемную и столовую; в соседней, меньшей, была устроена спальня, которую разделяла с ней ее компаньонка Хрисила, а в третьей помещалась кухня с поваром и его помощниками.
Егеря, доезжачие и невольники разместились в повозках, а многие из них ночевали под открытым небом около наскоро устроенной псарни, и до того времени пустынный сад превратился в пестрый и шумный лагерь. Утром на другой день неожиданного приезда дочери Архиаса, задолго до восхода солнца, рабы и вольноотпущенные были на ногах. Дафна назначила для охоты тот ранний час, когда пернатые обитатели островов начинают покидать гнезда и чащи кустов. Ее двоюродные братья, скульпторы, желая ей угодить, отправились с ней, но охота продолжалась недолго, и в то время, когда теннисский рынок был в полном разгаре, челноки охотников пристали к берегу. С ними приехали биамитские лодочники и рыбаки, служившие им проводниками и знавшие места выводков. Коричневые, с белыми подпалинами, собаки выскочили из лодок и с громким лаем, отряхиваясь от воды, побежали к палаткам. Темнокожие рабы понесли к белому дому добычу; они положили на ступенях у входных дверей несколько рядов крупных птиц. Стрелы Дафны положили на месте всех этих птиц, так, по крайней мере, говорили ловчие, хотя и подозревали, что главный егерь присоединил к добыче госпожи несколько пеликанов и грифов, убитых другими. Прежде чем удалиться в свою палатку, Дафна осмотрела их и осталась очень довольна результатом охоты. Она слыхала раньше о несметном количестве птиц, населяющих эти острова, но число убитых птиц превышало даже самые большие ее ожидания; ее голубые глаза радостно заблистали при виде того, какая богатая добыча досталась на ее долю за такое сравнительно короткое время, но сейчас же тень неудовольствия проскользнула на ее выразительном лице. Запах этих птичьих тушек, на которые уже падали лучи полуденного солнца, неприятно поразил ее, и какое-то чувство недовольства, в котором она не могла отдать себе отчета, заставило ее от них отвернуться. Ее движения были полны благородства и прирожденной грации. Высокий чернобородый Гермон с нескрываемым восхищением художника оглядел ее прекрасно сложенную фигуру. Легкая полнота форм и решительная поступь заставляли принимать ее скорее за молодую женщину, нежели за девушку, но оба художника, близкие к ней с детства, знали, сколько скрывалось скромности и сердечной доброты под самостоятельным и решительным видом этой двадцатидвухлетней девушки. Белокурый Мертилос, казалось, не обращал ни малейшего внимания на убитых птиц, которых считал домоправитель Архиаса, вифиниянин Грасс. Гермон смотрел на них очень внимательно и, в то время как Дафна собиралась удалиться, воскликнул тоном недовольства, указывая на безжизненных обитателей воздуха:
– Да будет стыдно нам, людям! Желал бы я знать, может ли самая кровожадная гиена за несколько часов уничтожить столько живых существ! Дикие звери не в состоянии убить даже несчастного воробья после того, как утолили свой голод. А мы! Ты, мягкосердная, жрица доброй богини, и мы, друзья муз, поступаем иначе. Смотри, целая гора мертвых тел, и что с ними станется? Несколько гусей и уток попадут на твою кухню, другие же, например, розовато-красные фламинго, великодушные пеликаны, кормящие своих детенышей собственной кровью, они все годятся только на то, чтобы их выбросить, потому что биамиты не едят птиц, убитых стрелами, и даже твои черные рабы откажутся их попробовать. Итак, мы уничтожаем сотни жизней для времяпрепровождения. Какой позор! Как будто у нас так много лишних часов до того времени, когда нас примет мрачный Аид в свое царство теней. Какой-нибудь звериный философ имел бы полное право сказать нам: «Стыдись, кровожадное чудовище!»
– Стыдись ты, вечно недовольный, – прервала его обиженная Дафна. – Кто когда-либо находил жестоким убивать бессмысленных тварей на веселой охоте с целью развить зоркость зрения и верность руки? Но как должна я назвать того, кто своими едкими упреками испортил мне, своей приятельнице, все удовольствие от весело проведенного утра?
Гермон пожал плечами и тоном скорее сожаления, нежели порицания сказал:
– Если тебе нравится эта масса трупов, то продолжай твои убийства; ты можешь даже сохранять свои стрелы и ловить руками кишащую здесь дичь. Будь твои жертвы людьми, кто знает, быть может, они были бы тебе очень благодарны, ибо что такое жизнь?
– Для этих-то жизнь есть все, – заговорил Мертилос, которого Дафна взглядом как бы просила прийти на помощь, и, обращаясь к ней, он продолжал: – Ты знаешь, как охотно я везде и всюду беру твою сторону, в данном же случае не могу этого сделать. Посмотри только сюда, твоя стрела раздробила этому морскому орлу крыло; он только что очнулся. Что за прекрасная птица, как блестит его глаз, полный злобы и жажды мести! Как протягивает он в своей бессильной злости к нам голову и… отойдя назад, с какой силой воли, несмотря на боль в простреленном крыле, расправляет он другое и подымает свою тяжелую лапу с сильными когтями! Красиво сверкает и переливается его оперение там, где оно ложится гладью, и как грозно оно раздулось на его шее! А те, другие, тут же подле него! В безжизненную, никуда не годную массу превратили мы их, а давно ли они ударами своих могучих крыльев прорезали воздух и громким радостным криком возвещали птенцам в гнездах о своем возвращении с кормом? Наслаждением для глаз была каждая из них, пока наша стрела не настигла ее, а теперь? Если Гермон с его сострадательным сердцем осуждает такую охоту, он вполне прав. Она отнимает у свободных невинных существ то, что у них есть самого лучшего, – их жизнь, а нас лишает приятного, красивого зрелища. В общем, я считаю, что жизнь птицы не стоит многого, но я, как и ты, ставлю красоту выше всего. Что была бы наша жизнь, не будь ее? И где бы и в чем бы ни проявлялась красота, уничтожать ее, по-моему, безбожно.
Тут молодого художника прервал припадок кашля, который, как и влажный блеск его голубых глаз, указывал на болезнь легких. Дафна, кивнув утвердительно обоим скульпторам, отдала приказание домоправителю Грассу убрать с глаз долой убитых птиц.
– Быть может, – заметил вифиниянин, – госпожа дозволит отрезать у пеликанов часть их крепкого клюва, а у фламинго и хищных птиц их маховые перья и по возвращении домой показать их господину нашему как трофеи охоты?
– Трофеи, – повторила Дафна презрительно. – Ты, Гермон, лучше меня, лучше нас всех, и я сознаюсь, что ты прав. Где дичь летит в таком количестве навстречу твоим стрелам, там охота становится убийством, и при таких легко достигаемых успехах теряется удовольствие, которое охота могла бы доставить. Назначенная после заката солнца вечерняя охота отменяется, Грасс. Заведующий охотой, вместе с егерями и собаками, может сегодня же отправляться на грузовых судах домой. Я не буду больше здесь охотиться. Одних хищных птиц можно и должно было бы здесь уничтожать.
– Им-то я и желаю больше всего сохранить жизнь, – прервал ее Гермон, смеясь, – потому что они лучше всего умеют ею пользоваться.
– Ну, так сохраним мы ее, по крайней мере, этому морскому орлу! – вскричала Дафна и приказала домоправителю позаботиться о раненой птице.
Когда же орел сильно ударил клювом взявшего его биамита, Гермон повернулся к молодой девушке и сказал ей:
– От имени орла благодарю тебя, несравненная, за твое доброе побуждение, но боюсь, что этому раненому не поможет даже самый тщательный уход, потому что, чем выше стремится он, тем вернее погибает, когда его сила и энергия разбиты. Вот и моя энергия очень пострадала.