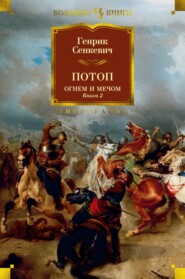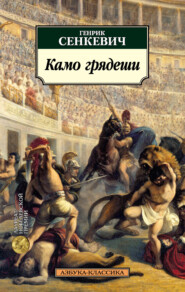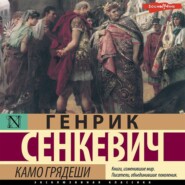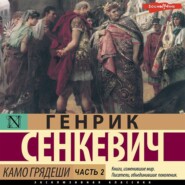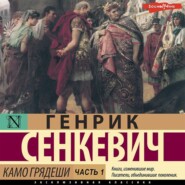По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Пан Володыёвский. Огнем и мечом. Книга 3
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В третий раз опрокинули кубки. Заглоба выпил залпом, хотя в кубке было эдак с полкварты, и, не успев даже обтереть усов, жалобно завопил:
– Был бы я тварью неблагодарной, если бы не выпил и за тебя. Наливай, мальчик!
– Спасибо, друг! – сказал брат Ежи.
В бутыли показалось дно, Заглоба схватил ее за горло и разбил вдребезги, потому что не выносил вида пустой посуды. На этот раз все быстро уселись и поехали.
Благородный напиток согрел кровь живительным теплом, а души – надеждой. Щеки брата Ежи покрылись легким румянцем, взгляд обрел прежнюю быстроту.
Рука его невольно потянулась к усикам, теперь они снова, как маленькие шильца, торчали вверх, едва не касаясь глаз. Он с любопытством оглядывался по сторонам, будто бы видел все вокруг впервые.
Вдруг Заглоба хлопнул себя рукой по коленям и ни с того ни с сего крикнул:
– Гоп! Гоп! Как только Кетлинг тебя увидит, полегчает ему всенепременно!
И, на радостях обхватив Михала за шею, принялся обнимать его изо всех сил.
Володыёвский не остался у него в долгу, и они с чувством прижимали к груди друг друга.
Ехали молча, но молчание это было целительным.
Тем временем по обеим сторонам дороги появились слободские домики.
Все вокруг так и кипело: туда и сюда спешили мещане, пестро разодетая челядь, солдаты, шляхтичи, разряженные в пух и прах.
– На сейм съехался народ, – объяснял Заглоба, – может, и не всякий по делу, но поглядеть да послушать всем охота. Постоялые дворы да корчмы переполнены – угла свободного не найти, а уж шляхтянок на улице больше, чем волос в бороде!.. До того хороши, канальи, что порой человек готов руками захлопать, аки gallus[22 - Петух (лат.).] крыльями, и запеть во всю глотку. Гляди! Вон видишь, смуглянка, лакей за ней накидку зеленую несет, вон какая гладкая, а?!
Тут пан Заглоба толкнул Володыёвского кулаком в бок, тот глянул, усы у него встопорщились, глазки блеснули, но в ту же минуту он опомнился, потупил взгляд и после краткого молчания сказал:
– Memento mori!
А Заглоба снова обнял его за шею.
– Per amititiam nostram[23 - Во имя нашей дружбы (лат.).], Михал, коли любишь меня, коли уважаешь мою старость, женись! Столько вокруг девиц достойных, женись, говорю!
Брат Ежи с изумлением посмотрел на друга. Пан Заглоба не был пьян, он, бывало, выпивал трижды столько и не заговаривался, стало быть, и сейчас повел такие речи разве что от избытка чувств. Но всякая мысль о женитьбе казалась Михалу кощунством, и в первое мгновение он был так изумлен, что даже не рассердился.
Потом сурово посмотрел на Заглобу и сказал:
– Ты, сударь, должно быть, перебрал малость!
– От души говорю, женись! – повторил Заглоба.
Пан Володыёвский глянул еще угрюмей:
– Memento mori!
Но Заглобу не так-то легко было положить на обе лопатки.
– Михал, если ты меня любишь, сделай это ради меня и думать забудь про свое «memento». Repeto[24 - Повторяю (лат.).], никто тебя не неволит, но только служи Богу тем, для чего Он тебя создал, а создал Он тебя для сабли, и, должно быть, такова была Его воля, коль сумел ты достичь в сем искусстве такого совершенства. Если бы вздумал Он сделать из тебя ксендза, то, наверное, наделил бы иным искусством, а сердце склонил бы к книгам и латыни. Замечал я также, что люди солдат-праведников не меньше, чем святых отцов, почитают, потому как они в походы против всякой нечисти ходят и praemia[25 - Награда (лат.).] из рук Божьих получают, с вражескими знаменами возвращаясь. Все так, не станешь же ты перечить?
– Не стану спорить, да и знаю к тому же, что в поединке словесном мне тебя не одолеть, но и ты, сударь, согласись, что для печали в монастырских стенах куда больше пищи.
– Ого! Коли так, то уж и вовсе следует монастырские ворота для тоски vitare[26 - Закрыть (лат.).]. Грусть-тоску следует в голоде держать, чтобы она подохла, а тот, кто ее питает, глуп!
Пан Володыёвский не сразу нашелся что сказать и замолк, а через минуту отозвался грустным голосом:
– Ты мне, сударь, о женитьбе не напоминай, такие напоминания только бередят душу. Давней охоты больше нет, слезами смыло, да и годы не те. Вон и чуб у меня уже седой. Сорок два года, а из них двадцать пять лет трудов военных не шутки, нет, не шутки.
– Боже милосердный, не покарай его за кощунство! Сорок два года? Тьфу! Погляди на меня! У человека вдвое больше за спиною осталось, а порой ох как трудно жар в груди охладить, лихорадку, словно пыль, вытрясти. Почитай память дорогой своей покойницы! Значит, для нее ты был хорош, а для других стар, негоден?
– Полно, сударь, полно, не береди душу! – голосом, исполненным грусти, отозвался Володыёвский.
И на усики его закапали слезы.
– Буду нем как рыба, – сказал Заглоба, – но только дай слово чести, что бы там с Кетлингом ни было, месяц ты проведешь с нами. Надо тебе и Скшетуского повидать. Ежели потом в монастырь надумаешь вернуться, никто тебя не задержит.
– Даю слово! – отозвался пан Михал.
И они тут же заговорили о другом. Пан Заглоба рассказывал о сейме, о том, как он выступил против князя Богуслава, вспомнил и об истории с Кетлингом.
Впрочем, он частенько прерывал рассказ, полностью отдаваясь своим мыслям. Должно быть, мысли это были веселые, потому что он время от времени хлопал себя руками по коленям и восклицал:
– Эге! Э-ге-ге!
Однако чем ближе подъезжали они к Мокотову, тем больше вытягивалось его лицо. Он вдруг обернулся к Володыёвскому и сказал:
– Помнишь? Ты ведь дал слово чести, что Кетлинг Кетлингом, а все равно месяц с нами побудешь.
– От слова не отрекусь, – отвечал Володыёвский.
– А вот и Кетлингов двор, – сказал Заглоба, – и преотличный!
А после этого крикнул кучеру:
– А ну-ка щелкни кнутом! Праздник сегодня в этом доме!
Раздался громкий свист кнута. Но возок не успел еще въехать в ворота, как с крыльца сбежали старые товарищи пана Михала; были среди них и давние знакомцы, еще со времен Хмельницкого, и совсем юные бойцы, и среди них пан Василевский и пан Нововейский, птенцы желторотые, но удалые вояки, из тех, что мальчишками, удрав из школы, вот уже несколько лет под началом Володыёвского проходили военную науку. Маленький рыцарь любил их безмерно.
Из стариков был пан Орлик, из рода Новина, тот самый, у которого на черепе сверкала заплата из золота – память об осколке шведской гранаты, и пан Рущиц, полудикий степной рыцарь, непревзойденный наездник во вражеский стан, одному Володыёвскому уступавший в своем искусстве, и еще кое-кто. Все они, увидев в экипаже двух мужей, принялись кричать:
– Здесь он, здесь! Vicit[27 - Победил (лат.).] Заглоба! Здесь!
Они бросились к возку, схватили маленького рыцаря и понесли на руках, повторяя:
– Здравствуй! Здравствуй, друг наш и товарищ милый! С нами ты теперь, и мы тебя не отпустим! Vivat Володыёвский, доблестный рыцарь, украшение всего войска! В сте?пи, с нами, брат, в сте?пи! В Дикое поле! Там ветры тоску твою развеют!
И только на крыльце они выпустили его из рук. Володыёвский со всеми здоровался, несказанно обрадовавшись такой сердечности, и спросил только:
– Был бы я тварью неблагодарной, если бы не выпил и за тебя. Наливай, мальчик!
– Спасибо, друг! – сказал брат Ежи.
В бутыли показалось дно, Заглоба схватил ее за горло и разбил вдребезги, потому что не выносил вида пустой посуды. На этот раз все быстро уселись и поехали.
Благородный напиток согрел кровь живительным теплом, а души – надеждой. Щеки брата Ежи покрылись легким румянцем, взгляд обрел прежнюю быстроту.
Рука его невольно потянулась к усикам, теперь они снова, как маленькие шильца, торчали вверх, едва не касаясь глаз. Он с любопытством оглядывался по сторонам, будто бы видел все вокруг впервые.
Вдруг Заглоба хлопнул себя рукой по коленям и ни с того ни с сего крикнул:
– Гоп! Гоп! Как только Кетлинг тебя увидит, полегчает ему всенепременно!
И, на радостях обхватив Михала за шею, принялся обнимать его изо всех сил.
Володыёвский не остался у него в долгу, и они с чувством прижимали к груди друг друга.
Ехали молча, но молчание это было целительным.
Тем временем по обеим сторонам дороги появились слободские домики.
Все вокруг так и кипело: туда и сюда спешили мещане, пестро разодетая челядь, солдаты, шляхтичи, разряженные в пух и прах.
– На сейм съехался народ, – объяснял Заглоба, – может, и не всякий по делу, но поглядеть да послушать всем охота. Постоялые дворы да корчмы переполнены – угла свободного не найти, а уж шляхтянок на улице больше, чем волос в бороде!.. До того хороши, канальи, что порой человек готов руками захлопать, аки gallus[22 - Петух (лат.).] крыльями, и запеть во всю глотку. Гляди! Вон видишь, смуглянка, лакей за ней накидку зеленую несет, вон какая гладкая, а?!
Тут пан Заглоба толкнул Володыёвского кулаком в бок, тот глянул, усы у него встопорщились, глазки блеснули, но в ту же минуту он опомнился, потупил взгляд и после краткого молчания сказал:
– Memento mori!
А Заглоба снова обнял его за шею.
– Per amititiam nostram[23 - Во имя нашей дружбы (лат.).], Михал, коли любишь меня, коли уважаешь мою старость, женись! Столько вокруг девиц достойных, женись, говорю!
Брат Ежи с изумлением посмотрел на друга. Пан Заглоба не был пьян, он, бывало, выпивал трижды столько и не заговаривался, стало быть, и сейчас повел такие речи разве что от избытка чувств. Но всякая мысль о женитьбе казалась Михалу кощунством, и в первое мгновение он был так изумлен, что даже не рассердился.
Потом сурово посмотрел на Заглобу и сказал:
– Ты, сударь, должно быть, перебрал малость!
– От души говорю, женись! – повторил Заглоба.
Пан Володыёвский глянул еще угрюмей:
– Memento mori!
Но Заглобу не так-то легко было положить на обе лопатки.
– Михал, если ты меня любишь, сделай это ради меня и думать забудь про свое «memento». Repeto[24 - Повторяю (лат.).], никто тебя не неволит, но только служи Богу тем, для чего Он тебя создал, а создал Он тебя для сабли, и, должно быть, такова была Его воля, коль сумел ты достичь в сем искусстве такого совершенства. Если бы вздумал Он сделать из тебя ксендза, то, наверное, наделил бы иным искусством, а сердце склонил бы к книгам и латыни. Замечал я также, что люди солдат-праведников не меньше, чем святых отцов, почитают, потому как они в походы против всякой нечисти ходят и praemia[25 - Награда (лат.).] из рук Божьих получают, с вражескими знаменами возвращаясь. Все так, не станешь же ты перечить?
– Не стану спорить, да и знаю к тому же, что в поединке словесном мне тебя не одолеть, но и ты, сударь, согласись, что для печали в монастырских стенах куда больше пищи.
– Ого! Коли так, то уж и вовсе следует монастырские ворота для тоски vitare[26 - Закрыть (лат.).]. Грусть-тоску следует в голоде держать, чтобы она подохла, а тот, кто ее питает, глуп!
Пан Володыёвский не сразу нашелся что сказать и замолк, а через минуту отозвался грустным голосом:
– Ты мне, сударь, о женитьбе не напоминай, такие напоминания только бередят душу. Давней охоты больше нет, слезами смыло, да и годы не те. Вон и чуб у меня уже седой. Сорок два года, а из них двадцать пять лет трудов военных не шутки, нет, не шутки.
– Боже милосердный, не покарай его за кощунство! Сорок два года? Тьфу! Погляди на меня! У человека вдвое больше за спиною осталось, а порой ох как трудно жар в груди охладить, лихорадку, словно пыль, вытрясти. Почитай память дорогой своей покойницы! Значит, для нее ты был хорош, а для других стар, негоден?
– Полно, сударь, полно, не береди душу! – голосом, исполненным грусти, отозвался Володыёвский.
И на усики его закапали слезы.
– Буду нем как рыба, – сказал Заглоба, – но только дай слово чести, что бы там с Кетлингом ни было, месяц ты проведешь с нами. Надо тебе и Скшетуского повидать. Ежели потом в монастырь надумаешь вернуться, никто тебя не задержит.
– Даю слово! – отозвался пан Михал.
И они тут же заговорили о другом. Пан Заглоба рассказывал о сейме, о том, как он выступил против князя Богуслава, вспомнил и об истории с Кетлингом.
Впрочем, он частенько прерывал рассказ, полностью отдаваясь своим мыслям. Должно быть, мысли это были веселые, потому что он время от времени хлопал себя руками по коленям и восклицал:
– Эге! Э-ге-ге!
Однако чем ближе подъезжали они к Мокотову, тем больше вытягивалось его лицо. Он вдруг обернулся к Володыёвскому и сказал:
– Помнишь? Ты ведь дал слово чести, что Кетлинг Кетлингом, а все равно месяц с нами побудешь.
– От слова не отрекусь, – отвечал Володыёвский.
– А вот и Кетлингов двор, – сказал Заглоба, – и преотличный!
А после этого крикнул кучеру:
– А ну-ка щелкни кнутом! Праздник сегодня в этом доме!
Раздался громкий свист кнута. Но возок не успел еще въехать в ворота, как с крыльца сбежали старые товарищи пана Михала; были среди них и давние знакомцы, еще со времен Хмельницкого, и совсем юные бойцы, и среди них пан Василевский и пан Нововейский, птенцы желторотые, но удалые вояки, из тех, что мальчишками, удрав из школы, вот уже несколько лет под началом Володыёвского проходили военную науку. Маленький рыцарь любил их безмерно.
Из стариков был пан Орлик, из рода Новина, тот самый, у которого на черепе сверкала заплата из золота – память об осколке шведской гранаты, и пан Рущиц, полудикий степной рыцарь, непревзойденный наездник во вражеский стан, одному Володыёвскому уступавший в своем искусстве, и еще кое-кто. Все они, увидев в экипаже двух мужей, принялись кричать:
– Здесь он, здесь! Vicit[27 - Победил (лат.).] Заглоба! Здесь!
Они бросились к возку, схватили маленького рыцаря и понесли на руках, повторяя:
– Здравствуй! Здравствуй, друг наш и товарищ милый! С нами ты теперь, и мы тебя не отпустим! Vivat Володыёвский, доблестный рыцарь, украшение всего войска! В сте?пи, с нами, брат, в сте?пи! В Дикое поле! Там ветры тоску твою развеют!
И только на крыльце они выпустили его из рук. Володыёвский со всеми здоровался, несказанно обрадовавшись такой сердечности, и спросил только: