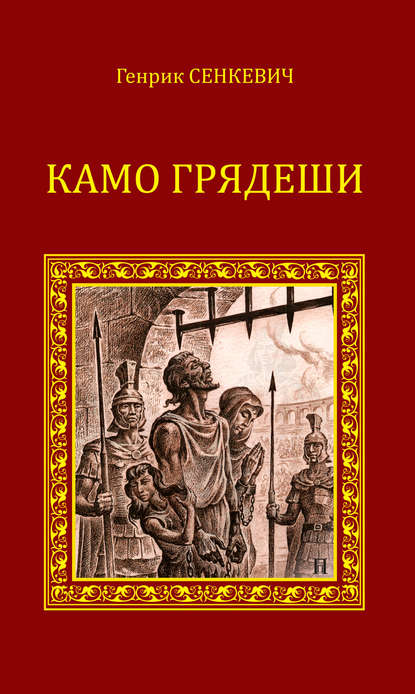По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Камо грядеши
Автор
Жанр
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вождь, – сказал он прерывающимся голосом, – возвращайся к себе и жди меня… знай, что если б Петроний был мой отец, я бы отомстил ему за оскорбление Лигии. Возвращайся к себе и жди меня. Ни Петронию, ни цезарю она не достанется.
И, повернувшись с сжатыми кулаками к восковым фигурам, стоявшим в атрии, он воскликнул:
– Клянусь этими смертными фигурами! Раньше убью ее и себя. – И, сорвавшись с места, он еще раз бросил Авлу: «жди меня!» и выбежал из атрия и полетел к Петронию, расталкивая встречных прохожих.
Авл возвратился домой с некоторой надеждой. Он решил, что если Петроний подговорил цезаря похитить Лигию для того, чтобы отдать ее Виницию, то Виниций возвратит ее в их дом. Наконец немалым притеснением для него была мысль, что если Лигия не будет спасена, то она будет отмщена, и смерть избавит ее от позора. Он верил, что Виниций выполнит все, что обещал. Он видел его ярость и запальчивость, присущую всему роду Виниция. Он сам, хотя любил Лигию как родной отец, предпочел бы убить ее, чем отдать цезарю, и если б не мысль о сыне, единственном представителе их рода, то он непременно так бы и поступил. Авл был воин, и только кое-что слышал о стоиках, но характером он был похож на них, и по его понятиям, по его воззрениям смерть была легче и лучше позора.
Возвратившись домой, он успокоил Помпонию, передал ей свои надежды, и оба они стали ждать вестей от Виниция. Когда по временам в атрии раздавались шаги кого-то из рабов, они думали, что это Виниций возвращает им их дорогого ребенка, и в глубине души готовы были благословить обоих. Но время шло, а известий никаких не было.
Только вечером раздался стук молота в ворота.
Через минуту вошел раб и передал Авлу письмо. Хотя старый вождь и любил выказывать самообладание, но он взял его дрожащей рукой и стал читать так торопливо, как будто речь шла о всем доме его.
Лицо его вдруг померкло, как будто на него упала тень от пролетавшей тучи.
– Читай, – сказал он, обратившись к Помпонии.
Помпония взяла письмо и прочла следующее:
«Марк Виниций приветствует Авла Плавция. То, что случилось, случилось по воле цезаря, пред которой преклоните головы, как преклоняю ее и я и Петроний».
Наступило продолжительное молчание.
VI
Петроний был дома. Привратник не посмел задержать Виниция, который ворвался в атрий как буря; узнав, что хозяина надо искать в библиотеке, он с тою же стремительностью бросился туда и, застав Петрония пишущим, вырвал у него из рук тростник, сломал его, бросил на землю, впился пальцами в его плечо и, пригнувшись к его лицу, хриплым голосом спросил:
– Что ты с ней сделал? Где она?
Но вдруг произошло нечто странное. Этот тонкий, изнеженный Петроний схватил впившуюся в его плечо руку молодого атлета, потом другую и, сжимая их в одной своей руке, точно железными клещами, сказал:
– Я только по утрам бываю разбит, а по вечерам ко мне возвращается прежняя сила, попробуй вырваться. Гимнастике тебя, вероятно, учил ткач, а приличиям – кузнец.
На его лице не было даже гнева, только в глазах сверкали огоньки отваги и силы; через минуту он выпустил руки Виниция, который стоял перед ним униженный, пристыженный, но яростный.
– У тебя стальная рука, – сказал он. – Но клянусь тебе всеми подземными богами, если ты обманул меня, я всажу тебе нож в горло, хотя бы даже в покоях цезаря.
– Поговорим спокойно, – отвечал Петроний. – Как видишь, сталь крепче железа; поэтому мне нечего тебя бояться, хотя из твоей одной руки можно было бы сделать две мои. Меня огорчает твоя грубость, и если бы человеческая неблагодарность могла меня еще изумлять, я бы изумился твоей неблагодарности.
– Где Лигия?
– В лупанарии, то есть в доме цезаря.
– Петроний!
– Успокойся и сядь! Я просил цезаря о двух вещах – и он мне обещал: во-первых, взять Лигию из дома Авла, а во-вторых, отдать ее тебе… Нет ли у тебя где-нибудь ножа в складках тоги? Может быть, ты меня заколешь. Но я тебе советую подождать денька два, потому что тебя посадили бы в темницу, а тем временем Лигия соскучится в твоем доме.
Наступило молчание. Виниций смотрел на Петрония какими-то удивленными глазами и потом сказал:
– Прости меня. Я люблю ее, и любовь мутит мой рассудок.
– Третьего дня я сказал цезарю: мой племянник Виниций так влюбился в одну тощую девушку, которая воспитывается у Авла, что дом его превратился от вздохов в паровую баню, ни ты – говорю я – цезарь, – ни я, которые понимают, что такое истинная красота, не дали бы за нее и тысячи сестерций, но этот юноша всегда был глуп, а теперь окончательно оглупел.
– Петроний!
– Если ты не понимаешь, что я говорил это, чтобы защитить Лигию, то я готов уверять тебя, что я говорил правду. Я убедил Меднобородого, что такой эстетик, как он, не может считать такую девушку красавицей, и Нерон, который до сих пор не решается смотреть иначе, как моими глазами, не найдет в ней красоты, а не найдя красоты, не возьмет ее для себя. Надо было оградить себя от этой обезьяны и взять ее на веревочку. Лигию оценит теперь не он, а Поппея, и она, конечно, постарается выпроводить ее из дворца как можно скорее. А потом я, как бы нехотя, говорил Меднобородому: «Возьми Лигию и отдай ее Виницию! Ты имеешь право это сделать, потому что она заложница, и если ты так сделаешь, то сделаешь неприятность Авлу». И он согласился. У него не было ни малейшей причины не соглашаться, тем более что я дал ему возможность сделать неприятность хорошим людям. Тебя сделают опекуном заложницы, отдадут в твои руки это лигийское сокровище, и ты, как союзник храбрых лигийцев и, кроме того, верный слуга цезаря, не только не израсходуешь это сокровище, но, наоборот, постараешься о его преумножении. Цезарь для соблюдения приличий несколько дней сохранит ее у себя, а потом отошлет ее в твой дом, счастливец!
– Это правда? Ей ничего не грозит в доме цезаря?
– Если бы она должна была поселиться там навсегда, тогда Поппея поговорила бы о ней с Локустой, но в течение нескольких дней ничего ей не грозит. Во дворце цезаря десять тысяч народа. Очень может быть, что Нерон даже не увидит ее, тем более что он мне поверил и у меня только что был центурион с донесением, что он доставил девушку во дворец и сдал ее в руки Актеи. Эта Актея – добрая душа, поэтому я и приказал поручить Лигию ей. Очевидно, Помпония Грецина того же мнения, потому что написала ей. Завтра у Нерона пир. Я выговорил тебе место рядом с Лигией.
– Прости мне, Кай, мою вспыльчивость, – сказал Виниций. – Я думал, что ты велел ее привести для себя или для цезаря.
– Я могу простить тебе вспыльчивость, но мне гораздо труднее простить тебе твои грубые жесты, неприличные крики, напоминающие игроков в мору, я этого не люблю, Марк, – и ты впредь остерегайся. Знай, что поставщиком женщин состоит Тигеллин, и знай также, что если бы я хотел взять эту девушку для себя, так я прямо в глаза сказал бы: «Виниций, я отнимаю у тебя Лигию, и она останется у меня, пока не надоест мне». – Говоря это, он прямо смотрел на Виниция своими ореховыми глазами, нагло и холодно, а молодой человек смутился окончательно.
– Я виноват, – сказал он. – Ты добр и благороден, и я благодарю тебя от всей души. Позволь мне только сделать тебе еще один вопрос. Отчего ты не приказал отослать Лигию прямо ко мне?
– Оттого, что цезарь хочет соблюсти приличия. Об этом будет говорить весь Рим, а так как мы взяли Лигию как заложницу, так вот, пока будут говорить, она и останется в доме цезаря. Потом мы потихоньку отошлем ее тебе, и всему делу конец. Меднобородый труслив как собака. Он знает, что его власть не имеет границ, а все-таки он старается всякому своему поступку придать законный вид. Пришел ли ты в себя настолько, чтобы немножко пофилософствовать? Мне самому не раз приходило на ум: отчего злодей, хотя бы и могущественный, как цезарь, и уверенный в безнаказанности, всегда заботится о соблюдении видимости закона, справедливости и добродетелей? Зачем эти заботы? Я соглашаюсь, что убить брата, мать и жену – это поступки, достойные какого-нибудь азиатского царька, а не римского цезаря, но, если бы это случилось со мной, я не писал бы оправдательных писем в сенат… А Нерон пишет, Нерон старается оправдать свои поступки, потому что Нерон трус. А вот Тиверий не был трусом, несмотря на то, что тоже старался оправдать всякий свой поступок. Почему это так, что это за странное невольное преклонение злодейства перед добродетелью?! И знаешь, что мне кажется? Это все потому, что преступление некрасиво, а добродетель прекрасна. Ergo, истинный эстетик должен быть добродетельным человеком. Ergo, я добродетельный человек. Надо будет возлить немного вина в память Протагора, Продика и Горгия. Оказывается, что и софисты могут на что-нибудь пригодиться. Слушай, я продолжаю: я отнял Лигию у Авла, чтобы передать ее тебе, – хорошо. Но Лизипп сделал бы из вас чудную группу. Оба вы прекрасны, а потому мой поступок тоже прекрасен, а будучи прекрасным, он не может быть дурным. Посмотри, Марк, перед тобой сидит олицетворение добродетели – Петроний! Если бы Аристид был жив, он должен был бы прийти ко мне и предложить мне сто мин за краткое рассуждение о добродетели!
Но Виниций, как человек, которого действительность занимала больше рассуждений о добродетели, сказал:
– Завтра я увижу Лигию, а потом она будет в моем доме и я буду ее видеть ежедневно, постоянно и до самой смерти.
– У тебя будет Лигия, а на моей шее будет сидеть Авл. Он призовет на меня месть всех подземных богов. И если бы он, по крайней мере, взял бы прежде урок декламации, а то он будет браниться так, как бранил моих клиентов мой прежний привратник, которого я за это отослал в деревню, в ergastulum.
– Авл был у меня. Я обещал известить его насчет Лилии.
– Напиши ему, что воля «божественного» цезаря есть наивысший закон и что первый твой сын будет называться Авлом. Надо же старику иметь какое-нибудь утешение. Я готов попросить Меднобородого, чтобы он позвал Авла завтра на пир. Пусть бы он увидел тебя в триклинии рядом с Лигией.
– Не делай этого, – сказал Виниций. – Мне их жаль, в особенности Помпонию.
И он сел писать письмо, которое отняло у старого вождя последнюю надежду.
VII
Перед Актеей, бывшей любовницей Нерона, некогда преклонялись знатнейшие сановники Рима. Но и в то время она не вмешивалась в дела государственные и если иногда и пользовалась своим влиянием на молодого правителя, то только для того, чтобы испросить для кого-нибудь помилования. Тихая, покорная, она заслужила благодарность многих, но никого не сделала своим врагом. Даже Октавия и та не могла ее ненавидеть. Завистливым она казалась слишком безвредной. Все знали, что она любит Нерона любовью грустной, печальной, но безнадежной, что живет только воспоминанием о том времени, когда Нерон был не только моложе, не только любящим, но и лучшим. Все знали, что Актея не может оторваться от этих воспоминаний, что она отдалась им и сердцем и душой, но ничего уже не ждет, и так как действительно не было никакой надежды на то, что цезарь вернется к ней, то на нее смотрели как на совершенно безопасное существо, и поэтому все оставляли ее в покое. Поппея считала ее покорной слугой, настолько безвредной, что даже не заботилась об удалении ее из дворца.
Но так как цезарь любил ее когда-то и покинул ее без злобы и даже некоторым образом дружелюбно, то она пользовалась известным вниманием. Нерон, отпустив ее на волю, дал ей помещение во дворце и в нем отдельный кубикул и несколько человек прислуги. А так как Паллас и Нарцис, вольноотпущенники Клавдия, не только садились с Клавдием за стол, но, как могущественные сановники, занимали почетные места, поэтому и Актею иногда приглашали к столу цезаря. Делали это, может быть, потому, что ее красивая внешность была истинным украшением пиршеств. Впрочем, цезарь в выборе общества давно перестал уже считаться с какими бы то ни было взглядами. К его столу садилась самая разнородная смесь людей всех званий и состояний. Между ними были и сенаторы, но главным образом были те, которые соглашались быть вместе с тем и шутами; были и патриции старые, и молодые, жаждавшие наслаждений, разврата и удовольствий; были и женщины с знатными именами, но не задумывающиеся одевать по вечерам рыжие парики и для развлечения искавшие приключений в темных улицах. Бывали и высокие сановники и жрецы, которые за полными чашами вина сами глумились над своими богами, а рядом с ними всякий сброд: певцы, комедианты, музыканты, танцовщики и танцовщицы, поэты, которые, декламируя стихи, думали только о сестерциях, которые они получат за восхваление стихов цезаря, философы, морившие себя голодом и жадными глазами провожающие подаваемые яства, известные возницы, фокусники, шуты, из которых мода или глупость сделали однодневных знаменитостей, прощелыги, среди которых было немало и таких, которые длинными волосами прикрывали свои уши, проколотые в знак рабства.
Более известные садились прямо к столу, – менее известные служили развлечением во время еды и ждали той минуты, когда прислуга позволить им броситься на остатки яств и напитков. Гостей этого рода доставляли Тигеллин, Ватиний и Вителий, и нередко им приходилось доставать для них одежду, подходящую для покоев цезаря, который любил именно такое общество, потому что чувствовал себя среди них гораздо свободнее. Пышность двора все прикрывала. Великие и малые, потомки знатных родов и уличная сволочь, великие артисты и последние подонки – все стремилось во дворец, чтобы насытить свои глаза видом роскоши, почти переходящей границы человеческого понимания, и приблизиться к источнику всевозможных благ, богатства и достояний, малейшая прихоть которого могла, правда, низвергнуть, но и превознести без меры.
В этот день и Лигия должна была принять участие в подобном пиршестве. Чувство страха, неуверенности и волнение, неудивительные после всего, что ей пришлось так внезапно пережить, боролись в ней с желанием выказать сопротивление. Она боялась цезаря, боялась людей, боялась дворца, шум которого отуманивал ее, боялась пиршеств, о бесстыдстве которых слышала от Авла, от Помпонии и их друзей. Хотя она была очень молода, но знала многое, потому что познание дурного в те времена рано доходило даже до детского ума. Она знала, что в этом дворце ей грозит погибель, от которой предостерегала ее в минуту разлуки Помпония. Но так как у нее была молодая, неиспорченная душа, и она верила в великое учение, привитое ей нареченной матерью, то она поклялась защищаться от позора и матери, и себе, и Тому Божественному Учителю, в Которого не только верила, но Которого полюбила всем своим полудетским сердцем за сладость учения, за горечь смерти и славу воскресения.
Она была тоже уверена, что теперь уже ни Авл, ни Помпония не будут отвечать за ее поступки, и потому она раздумывала, не лучше ли будет воспротивиться и не пойти на пир. С одной стороны, страх и беспокойство громко говорили в ее душе, с другой стороны – ее охватило желание отваги, смелости, ей захотелось мучений и смерти. Ведь сам Божественный Учитель повелел так. Ведь Он сам подал пример, ведь говорила же ей Помпония, что самые ревностные последователи всей душой жаждут такого испытания и молят о ниспослании его. И Лигией такое желание овладевало иногда, еще даже тогда, когда она была в доме Авла. Она представляла себе, что она мученица, что на руках и ногах у нее раны, что она бела как снег и прекрасна неземной красотой, что такие же белые ангелы уносят ее на небо, и эти видения доставляли ей радость. В этих мечтах было много детского, но было также и восхищение самой собой, за что Помпония осуждала ее. А теперь, когда сопротивление воле цезаря могло повлечь за собой какую-нибудь страшную кару и когда рисуемые в мечтах муки могли сделаться действительностью, к чудным видениям, к восхищению самой собой присоединилось нечто вроде любопытства, смешанного со страхом: как именно будут карать ее и какого рода муки придумают для нее. Так колебалась ее еще полудетская душа. Но Актея, узнав об этих колебаниях, с таким изумлением взглянула на нее, как будто девушка говорила все это в бреду. Оказать сопротивление воле цезаря? С первой же минуты навлечь на себя его гнев? Нужно быть ребенком, который сам не знает, что говорит, чтобы подумать об этом. Из собственных слов Лигии следует, что она не заложница, но девушка, забытая своим народом. Ее не защитит никакое международное право, а если бы оно и защитило ее, то цезарь достаточно могуществен, чтобы смять ее в минуту гнева. Цезарю угодно было взять ее, и с этой минуты он распоряжается ею. С этой минуты она в его власти, выше которой нет другой на свете.
– Да, – говорила она, – и я читала послания Павла из Тарса, и я знаю, что над землей есть Бог и есть Сын Божий, Который воскрес из мертвых, но на земле есть только цезарь. Помни об этом, Лигия. Я знаю тоже, что твое учение не позволяет тебе быть тем, чем была я, и когда вам, как стоикам, о которых мне говорил Эпиктет, надо сделать выбор между позором и смертью, разрешается выбрать только одну смерть. Но можешь ли ты решить, что тебя ждет смерть, а не позор? Разве ты не слыхала о дочери Сеяна, которая по приказанию Тиберия, еще совсем маленькой девочкой, должна была перед смертью пройти через позор ради соблюдения закона, по которому запрещена была казнь девушек? Лигия, Лигия, не раздражай цезаря! Когда придет решительная минута, когда тебе надо будет выбрать между смертью и позором, поступи так, как повелевает тебе твоя истина, но не ищи добровольной погибели и не раздражай понапрасну земного и притом жестокого бога.
Актея говорила горячо, с бесконечной жалостью; она была близорука и потому близко придвинула свое лицо к лицу Лигии, как бы желая узнать, какое впечатление производят ее слова.
И, повернувшись с сжатыми кулаками к восковым фигурам, стоявшим в атрии, он воскликнул:
– Клянусь этими смертными фигурами! Раньше убью ее и себя. – И, сорвавшись с места, он еще раз бросил Авлу: «жди меня!» и выбежал из атрия и полетел к Петронию, расталкивая встречных прохожих.
Авл возвратился домой с некоторой надеждой. Он решил, что если Петроний подговорил цезаря похитить Лигию для того, чтобы отдать ее Виницию, то Виниций возвратит ее в их дом. Наконец немалым притеснением для него была мысль, что если Лигия не будет спасена, то она будет отмщена, и смерть избавит ее от позора. Он верил, что Виниций выполнит все, что обещал. Он видел его ярость и запальчивость, присущую всему роду Виниция. Он сам, хотя любил Лигию как родной отец, предпочел бы убить ее, чем отдать цезарю, и если б не мысль о сыне, единственном представителе их рода, то он непременно так бы и поступил. Авл был воин, и только кое-что слышал о стоиках, но характером он был похож на них, и по его понятиям, по его воззрениям смерть была легче и лучше позора.
Возвратившись домой, он успокоил Помпонию, передал ей свои надежды, и оба они стали ждать вестей от Виниция. Когда по временам в атрии раздавались шаги кого-то из рабов, они думали, что это Виниций возвращает им их дорогого ребенка, и в глубине души готовы были благословить обоих. Но время шло, а известий никаких не было.
Только вечером раздался стук молота в ворота.
Через минуту вошел раб и передал Авлу письмо. Хотя старый вождь и любил выказывать самообладание, но он взял его дрожащей рукой и стал читать так торопливо, как будто речь шла о всем доме его.
Лицо его вдруг померкло, как будто на него упала тень от пролетавшей тучи.
– Читай, – сказал он, обратившись к Помпонии.
Помпония взяла письмо и прочла следующее:
«Марк Виниций приветствует Авла Плавция. То, что случилось, случилось по воле цезаря, пред которой преклоните головы, как преклоняю ее и я и Петроний».
Наступило продолжительное молчание.
VI
Петроний был дома. Привратник не посмел задержать Виниция, который ворвался в атрий как буря; узнав, что хозяина надо искать в библиотеке, он с тою же стремительностью бросился туда и, застав Петрония пишущим, вырвал у него из рук тростник, сломал его, бросил на землю, впился пальцами в его плечо и, пригнувшись к его лицу, хриплым голосом спросил:
– Что ты с ней сделал? Где она?
Но вдруг произошло нечто странное. Этот тонкий, изнеженный Петроний схватил впившуюся в его плечо руку молодого атлета, потом другую и, сжимая их в одной своей руке, точно железными клещами, сказал:
– Я только по утрам бываю разбит, а по вечерам ко мне возвращается прежняя сила, попробуй вырваться. Гимнастике тебя, вероятно, учил ткач, а приличиям – кузнец.
На его лице не было даже гнева, только в глазах сверкали огоньки отваги и силы; через минуту он выпустил руки Виниция, который стоял перед ним униженный, пристыженный, но яростный.
– У тебя стальная рука, – сказал он. – Но клянусь тебе всеми подземными богами, если ты обманул меня, я всажу тебе нож в горло, хотя бы даже в покоях цезаря.
– Поговорим спокойно, – отвечал Петроний. – Как видишь, сталь крепче железа; поэтому мне нечего тебя бояться, хотя из твоей одной руки можно было бы сделать две мои. Меня огорчает твоя грубость, и если бы человеческая неблагодарность могла меня еще изумлять, я бы изумился твоей неблагодарности.
– Где Лигия?
– В лупанарии, то есть в доме цезаря.
– Петроний!
– Успокойся и сядь! Я просил цезаря о двух вещах – и он мне обещал: во-первых, взять Лигию из дома Авла, а во-вторых, отдать ее тебе… Нет ли у тебя где-нибудь ножа в складках тоги? Может быть, ты меня заколешь. Но я тебе советую подождать денька два, потому что тебя посадили бы в темницу, а тем временем Лигия соскучится в твоем доме.
Наступило молчание. Виниций смотрел на Петрония какими-то удивленными глазами и потом сказал:
– Прости меня. Я люблю ее, и любовь мутит мой рассудок.
– Третьего дня я сказал цезарю: мой племянник Виниций так влюбился в одну тощую девушку, которая воспитывается у Авла, что дом его превратился от вздохов в паровую баню, ни ты – говорю я – цезарь, – ни я, которые понимают, что такое истинная красота, не дали бы за нее и тысячи сестерций, но этот юноша всегда был глуп, а теперь окончательно оглупел.
– Петроний!
– Если ты не понимаешь, что я говорил это, чтобы защитить Лигию, то я готов уверять тебя, что я говорил правду. Я убедил Меднобородого, что такой эстетик, как он, не может считать такую девушку красавицей, и Нерон, который до сих пор не решается смотреть иначе, как моими глазами, не найдет в ней красоты, а не найдя красоты, не возьмет ее для себя. Надо было оградить себя от этой обезьяны и взять ее на веревочку. Лигию оценит теперь не он, а Поппея, и она, конечно, постарается выпроводить ее из дворца как можно скорее. А потом я, как бы нехотя, говорил Меднобородому: «Возьми Лигию и отдай ее Виницию! Ты имеешь право это сделать, потому что она заложница, и если ты так сделаешь, то сделаешь неприятность Авлу». И он согласился. У него не было ни малейшей причины не соглашаться, тем более что я дал ему возможность сделать неприятность хорошим людям. Тебя сделают опекуном заложницы, отдадут в твои руки это лигийское сокровище, и ты, как союзник храбрых лигийцев и, кроме того, верный слуга цезаря, не только не израсходуешь это сокровище, но, наоборот, постараешься о его преумножении. Цезарь для соблюдения приличий несколько дней сохранит ее у себя, а потом отошлет ее в твой дом, счастливец!
– Это правда? Ей ничего не грозит в доме цезаря?
– Если бы она должна была поселиться там навсегда, тогда Поппея поговорила бы о ней с Локустой, но в течение нескольких дней ничего ей не грозит. Во дворце цезаря десять тысяч народа. Очень может быть, что Нерон даже не увидит ее, тем более что он мне поверил и у меня только что был центурион с донесением, что он доставил девушку во дворец и сдал ее в руки Актеи. Эта Актея – добрая душа, поэтому я и приказал поручить Лигию ей. Очевидно, Помпония Грецина того же мнения, потому что написала ей. Завтра у Нерона пир. Я выговорил тебе место рядом с Лигией.
– Прости мне, Кай, мою вспыльчивость, – сказал Виниций. – Я думал, что ты велел ее привести для себя или для цезаря.
– Я могу простить тебе вспыльчивость, но мне гораздо труднее простить тебе твои грубые жесты, неприличные крики, напоминающие игроков в мору, я этого не люблю, Марк, – и ты впредь остерегайся. Знай, что поставщиком женщин состоит Тигеллин, и знай также, что если бы я хотел взять эту девушку для себя, так я прямо в глаза сказал бы: «Виниций, я отнимаю у тебя Лигию, и она останется у меня, пока не надоест мне». – Говоря это, он прямо смотрел на Виниция своими ореховыми глазами, нагло и холодно, а молодой человек смутился окончательно.
– Я виноват, – сказал он. – Ты добр и благороден, и я благодарю тебя от всей души. Позволь мне только сделать тебе еще один вопрос. Отчего ты не приказал отослать Лигию прямо ко мне?
– Оттого, что цезарь хочет соблюсти приличия. Об этом будет говорить весь Рим, а так как мы взяли Лигию как заложницу, так вот, пока будут говорить, она и останется в доме цезаря. Потом мы потихоньку отошлем ее тебе, и всему делу конец. Меднобородый труслив как собака. Он знает, что его власть не имеет границ, а все-таки он старается всякому своему поступку придать законный вид. Пришел ли ты в себя настолько, чтобы немножко пофилософствовать? Мне самому не раз приходило на ум: отчего злодей, хотя бы и могущественный, как цезарь, и уверенный в безнаказанности, всегда заботится о соблюдении видимости закона, справедливости и добродетелей? Зачем эти заботы? Я соглашаюсь, что убить брата, мать и жену – это поступки, достойные какого-нибудь азиатского царька, а не римского цезаря, но, если бы это случилось со мной, я не писал бы оправдательных писем в сенат… А Нерон пишет, Нерон старается оправдать свои поступки, потому что Нерон трус. А вот Тиверий не был трусом, несмотря на то, что тоже старался оправдать всякий свой поступок. Почему это так, что это за странное невольное преклонение злодейства перед добродетелью?! И знаешь, что мне кажется? Это все потому, что преступление некрасиво, а добродетель прекрасна. Ergo, истинный эстетик должен быть добродетельным человеком. Ergo, я добродетельный человек. Надо будет возлить немного вина в память Протагора, Продика и Горгия. Оказывается, что и софисты могут на что-нибудь пригодиться. Слушай, я продолжаю: я отнял Лигию у Авла, чтобы передать ее тебе, – хорошо. Но Лизипп сделал бы из вас чудную группу. Оба вы прекрасны, а потому мой поступок тоже прекрасен, а будучи прекрасным, он не может быть дурным. Посмотри, Марк, перед тобой сидит олицетворение добродетели – Петроний! Если бы Аристид был жив, он должен был бы прийти ко мне и предложить мне сто мин за краткое рассуждение о добродетели!
Но Виниций, как человек, которого действительность занимала больше рассуждений о добродетели, сказал:
– Завтра я увижу Лигию, а потом она будет в моем доме и я буду ее видеть ежедневно, постоянно и до самой смерти.
– У тебя будет Лигия, а на моей шее будет сидеть Авл. Он призовет на меня месть всех подземных богов. И если бы он, по крайней мере, взял бы прежде урок декламации, а то он будет браниться так, как бранил моих клиентов мой прежний привратник, которого я за это отослал в деревню, в ergastulum.
– Авл был у меня. Я обещал известить его насчет Лилии.
– Напиши ему, что воля «божественного» цезаря есть наивысший закон и что первый твой сын будет называться Авлом. Надо же старику иметь какое-нибудь утешение. Я готов попросить Меднобородого, чтобы он позвал Авла завтра на пир. Пусть бы он увидел тебя в триклинии рядом с Лигией.
– Не делай этого, – сказал Виниций. – Мне их жаль, в особенности Помпонию.
И он сел писать письмо, которое отняло у старого вождя последнюю надежду.
VII
Перед Актеей, бывшей любовницей Нерона, некогда преклонялись знатнейшие сановники Рима. Но и в то время она не вмешивалась в дела государственные и если иногда и пользовалась своим влиянием на молодого правителя, то только для того, чтобы испросить для кого-нибудь помилования. Тихая, покорная, она заслужила благодарность многих, но никого не сделала своим врагом. Даже Октавия и та не могла ее ненавидеть. Завистливым она казалась слишком безвредной. Все знали, что она любит Нерона любовью грустной, печальной, но безнадежной, что живет только воспоминанием о том времени, когда Нерон был не только моложе, не только любящим, но и лучшим. Все знали, что Актея не может оторваться от этих воспоминаний, что она отдалась им и сердцем и душой, но ничего уже не ждет, и так как действительно не было никакой надежды на то, что цезарь вернется к ней, то на нее смотрели как на совершенно безопасное существо, и поэтому все оставляли ее в покое. Поппея считала ее покорной слугой, настолько безвредной, что даже не заботилась об удалении ее из дворца.
Но так как цезарь любил ее когда-то и покинул ее без злобы и даже некоторым образом дружелюбно, то она пользовалась известным вниманием. Нерон, отпустив ее на волю, дал ей помещение во дворце и в нем отдельный кубикул и несколько человек прислуги. А так как Паллас и Нарцис, вольноотпущенники Клавдия, не только садились с Клавдием за стол, но, как могущественные сановники, занимали почетные места, поэтому и Актею иногда приглашали к столу цезаря. Делали это, может быть, потому, что ее красивая внешность была истинным украшением пиршеств. Впрочем, цезарь в выборе общества давно перестал уже считаться с какими бы то ни было взглядами. К его столу садилась самая разнородная смесь людей всех званий и состояний. Между ними были и сенаторы, но главным образом были те, которые соглашались быть вместе с тем и шутами; были и патриции старые, и молодые, жаждавшие наслаждений, разврата и удовольствий; были и женщины с знатными именами, но не задумывающиеся одевать по вечерам рыжие парики и для развлечения искавшие приключений в темных улицах. Бывали и высокие сановники и жрецы, которые за полными чашами вина сами глумились над своими богами, а рядом с ними всякий сброд: певцы, комедианты, музыканты, танцовщики и танцовщицы, поэты, которые, декламируя стихи, думали только о сестерциях, которые они получат за восхваление стихов цезаря, философы, морившие себя голодом и жадными глазами провожающие подаваемые яства, известные возницы, фокусники, шуты, из которых мода или глупость сделали однодневных знаменитостей, прощелыги, среди которых было немало и таких, которые длинными волосами прикрывали свои уши, проколотые в знак рабства.
Более известные садились прямо к столу, – менее известные служили развлечением во время еды и ждали той минуты, когда прислуга позволить им броситься на остатки яств и напитков. Гостей этого рода доставляли Тигеллин, Ватиний и Вителий, и нередко им приходилось доставать для них одежду, подходящую для покоев цезаря, который любил именно такое общество, потому что чувствовал себя среди них гораздо свободнее. Пышность двора все прикрывала. Великие и малые, потомки знатных родов и уличная сволочь, великие артисты и последние подонки – все стремилось во дворец, чтобы насытить свои глаза видом роскоши, почти переходящей границы человеческого понимания, и приблизиться к источнику всевозможных благ, богатства и достояний, малейшая прихоть которого могла, правда, низвергнуть, но и превознести без меры.
В этот день и Лигия должна была принять участие в подобном пиршестве. Чувство страха, неуверенности и волнение, неудивительные после всего, что ей пришлось так внезапно пережить, боролись в ней с желанием выказать сопротивление. Она боялась цезаря, боялась людей, боялась дворца, шум которого отуманивал ее, боялась пиршеств, о бесстыдстве которых слышала от Авла, от Помпонии и их друзей. Хотя она была очень молода, но знала многое, потому что познание дурного в те времена рано доходило даже до детского ума. Она знала, что в этом дворце ей грозит погибель, от которой предостерегала ее в минуту разлуки Помпония. Но так как у нее была молодая, неиспорченная душа, и она верила в великое учение, привитое ей нареченной матерью, то она поклялась защищаться от позора и матери, и себе, и Тому Божественному Учителю, в Которого не только верила, но Которого полюбила всем своим полудетским сердцем за сладость учения, за горечь смерти и славу воскресения.
Она была тоже уверена, что теперь уже ни Авл, ни Помпония не будут отвечать за ее поступки, и потому она раздумывала, не лучше ли будет воспротивиться и не пойти на пир. С одной стороны, страх и беспокойство громко говорили в ее душе, с другой стороны – ее охватило желание отваги, смелости, ей захотелось мучений и смерти. Ведь сам Божественный Учитель повелел так. Ведь Он сам подал пример, ведь говорила же ей Помпония, что самые ревностные последователи всей душой жаждут такого испытания и молят о ниспослании его. И Лигией такое желание овладевало иногда, еще даже тогда, когда она была в доме Авла. Она представляла себе, что она мученица, что на руках и ногах у нее раны, что она бела как снег и прекрасна неземной красотой, что такие же белые ангелы уносят ее на небо, и эти видения доставляли ей радость. В этих мечтах было много детского, но было также и восхищение самой собой, за что Помпония осуждала ее. А теперь, когда сопротивление воле цезаря могло повлечь за собой какую-нибудь страшную кару и когда рисуемые в мечтах муки могли сделаться действительностью, к чудным видениям, к восхищению самой собой присоединилось нечто вроде любопытства, смешанного со страхом: как именно будут карать ее и какого рода муки придумают для нее. Так колебалась ее еще полудетская душа. Но Актея, узнав об этих колебаниях, с таким изумлением взглянула на нее, как будто девушка говорила все это в бреду. Оказать сопротивление воле цезаря? С первой же минуты навлечь на себя его гнев? Нужно быть ребенком, который сам не знает, что говорит, чтобы подумать об этом. Из собственных слов Лигии следует, что она не заложница, но девушка, забытая своим народом. Ее не защитит никакое международное право, а если бы оно и защитило ее, то цезарь достаточно могуществен, чтобы смять ее в минуту гнева. Цезарю угодно было взять ее, и с этой минуты он распоряжается ею. С этой минуты она в его власти, выше которой нет другой на свете.
– Да, – говорила она, – и я читала послания Павла из Тарса, и я знаю, что над землей есть Бог и есть Сын Божий, Который воскрес из мертвых, но на земле есть только цезарь. Помни об этом, Лигия. Я знаю тоже, что твое учение не позволяет тебе быть тем, чем была я, и когда вам, как стоикам, о которых мне говорил Эпиктет, надо сделать выбор между позором и смертью, разрешается выбрать только одну смерть. Но можешь ли ты решить, что тебя ждет смерть, а не позор? Разве ты не слыхала о дочери Сеяна, которая по приказанию Тиберия, еще совсем маленькой девочкой, должна была перед смертью пройти через позор ради соблюдения закона, по которому запрещена была казнь девушек? Лигия, Лигия, не раздражай цезаря! Когда придет решительная минута, когда тебе надо будет выбрать между смертью и позором, поступи так, как повелевает тебе твоя истина, но не ищи добровольной погибели и не раздражай понапрасну земного и притом жестокого бога.
Актея говорила горячо, с бесконечной жалостью; она была близорука и потому близко придвинула свое лицо к лицу Лигии, как бы желая узнать, какое впечатление производят ее слова.