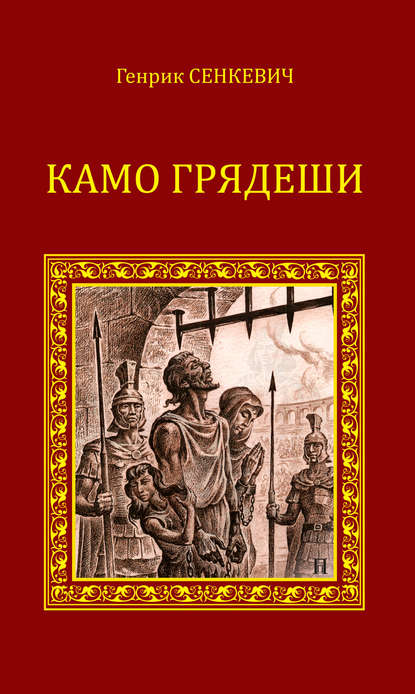По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Камо грядеши
Автор
Жанр
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Миром владеет не Нерон, а Бог.
Наступила полная тишина. Вблизи триклиния послышались шаги старого воина, Виниция, Лигии и маленького Авла, но прежде чем они подошли, Петроний спросил ее:
– Значит, ты веришь в богов, Помпония?
– Я верую в Бога единого, всемогущего и справедливого, – отвечала жена Авла Плавция.
III
– Она верует в Бога единого, всемогущего и справедливого, – повторил Петроний в ту минуту, когда снова очутился в носилках с глазу на глаз с Виницием. – Если же Бог всемогущий, значит, в его руках жизнь и смерть, а если он справедлив, то и смерть посылает справедливо. Зачем же тогда Помпония носит траур по Юлии? Своею скорбью она оскорбляет своего бога. Нужно будет повторить это рассуждение нашей меднобородой обезьяне; я прихожу к заключению, что в диалектике я не уступлю и Сократу. А что касается женщин, я согласен, что каждая имеет три или четыре души, но ни одной нет души разумной. Следовало бы Помпонии поговорить с Сенекой и Корнутом о том, что такое их великое «Логос». Пусть бы они вместе вызывали тени Ксенофана, Парменада, Зенона и Платона, которые тоскуют там, в Кимерийских краях, как чижи в клетке. Я собирался говорить с ней и Плавцием совсем о другом. Клянусь священным чревом египетской Изиды, если бы я прямо объявил, зачем мы пришли, их добродетель задребезжала бы как медный щит, по которому ударили палкой! И не посмел! Поверишь ли, Виниций, не посмел! Павлины – красивые птицы, но крик их отвратителен. Я испугался их крика. Однако я должен похвалить твой выбор: настоящая «розопестрая заря»… И знаешь, что она мне еще напоминает? – Весну! И не нашу итальянскую, с кое-где только одевшимися цветами яблонями и серыми оливками, но ту весну, которую я когда-то видел в Гельвеции, – молодую, свежую, светло-зеленую… Клянусь бледной Селеной! Я нисколько, Марк, тебе не удивляюсь, но знай, что ты влюблен в Диану, и что Помпония и Авл готовы тебя растерзать, как некогда псы растерзали Актеона.
Виниций, поникнув головой, молчал, потом заговорил прерывающимся от страсти голосом:
– Я жаждал ее и раньше, а теперь жажду еще сильнее. Когда я взял ее руку, меня охватило пламенем… Она должна быть моей. Если бы я был Зевсом, я окутал бы ее тучей, как он окутал Ио, или пролился бы на нее дождем, как он пролился на Данаю. Я хотел бы целовать уста ее до боли. Я хотел бы слышать ее крик в моих объятиях, хотел бы убить Авла и Помпонию, а ее похитить и на руках донести до моего дома. Я сегодня не засну. Я прикажу бичевать кого-нибудь из рабов и буду слушать его стоны…
– Успокойся! – сказал Петроний. – Что за желания, – как у плотника с улицы Субурры.
– Мне все равно. Она должна быть моей. Я пришел к тебе за советом, но если ты не найдешь средства, я сам найду его… Авл считает Лигию дочерью, зачем же мне смотреть на нее как на рабыню? Поэтому, если нет другого пути, пусть она обовьет двери моего дома, пусть намажет их волчьим салом и сядет у моего очага как законная жена моя!
– Успокойся, безумный потомок консулов. Не затем приводим мы варваров за нашими колесницами на веревках, чтобы потом жениться на их дочерях. Избегай крайностей! Сначала постарайся найти подходящий способ и дай себе и мне время обдумать это дело. Хризотемида также казалась мне дочерью Зевса, а ведь не женился же я на ней, – точно так же и Нерон ведь не женился на Актее, хотя ее и считали дочерью царя Аттала… Успокойся… Подумай, что если она захочет покинуть Авлов ради тебя, они не имеют права ее удерживать; и имей в виду, что не только ты один горишь, но и в ней Эрос зажег огонь… Я это заметил, а мне можно поверить… Имей терпение! На все есть средство, но сегодня я и без того много думал, а это меня утомляет. Зато обещаю тебе, что завтра еще подумаю о твоей любви, и не будь я Петроний, если я не найду какого-нибудь средства.
Он умолк, и оба они молчали некоторое время; Виниций заговорил уже более спокойно:
– Благодарю тебя! Да вознаградит тебя Фортуна!
– Имей терпение!
– Куда ты приказал нести себя?
– К Хризотемиде.
– Счастливый! Ты обладаешь той, которую ты любишь!
– Я? Знаешь, что меня еще связывает с Хризотемидой? То, что она изменяет мне с моим собственным вольноотпущенником, лютнистом Теоклом, и думает, что я этого не вижу. Когда-то я любил ее, а теперь меня забавляет ее ложь и глупость. Пойдем к ней. Если она начнет с тобой заигрывать и выводить на столе буквы пальцем, смоченным в вине, так имей в виду, что я не ревнив.
И они приказали нести себя к Хризотемиде.
Уже в прихожей Петроний положил руку Виниция на плечо и сказал:
– Подожди, мне кажется, я нашел средство…
– Да вознаградят тебя все боги…
– Да, думаю, что средство верное. Знаешь что, Марк?..
– Слушаю тебя, моя Афина!
– Через несколько дней божественная Лигия будет вкушать в твоем доме плоды Деметры.
– Ты более велик, чем цезарь! – воскликнул Виниций в восторге.
IV
Петроний сдержал свое обещание.
На другой день после посещения Хризотемиды он спал, правда, целый день, но вечером приказал отнести себя на Палатинский холм и имел с Нероном тайный разговор, следствием которого было то, что на третий день перед домом Плавция появился центурион во главе десятка преторианских солдат.
Время было тревожное и страшное. Подобного рода посланцы были чаще всего вестниками смерти. Поэтому с той минуты, когда центурион ударил молотом в двери Авла и когда надсмотрщик атрия дал знак, что в сенях находятся солдаты, всем домом овладел ужас. Семья сейчас же окружила старого воина, потому что никто не сомневался, что опасность прежде всего грозила ему. Помпония, обняв его за шею, прижималась к нему, и посиневшие губы ее шептали ему быстро какие-то слова. Лигия с побледневшим, как полотно, лицом целовала его руки; маленький Авл уцепился за его тогу; из коридора, из комнат верхнего этажа, предназначенного для слуг, из бань, из подвальных помещений, из всего дома стали выбегать толпы рабов и рабынь. Послышались возгласы: «heu! heu me, miserium!» – «горе, горе нам, несчастным!» Женщины зарыдали, некоторые царапали себе лицо, накрывали головы платками.
Один только старый воин, в течение многих лет привыкший смотреть смерти прямо в глаза, оставался спокоен; его орлиное лицо стало неподвижно, как бы высеченное из камня. Уняв шум и приказав прислуге разойтись, он сказал:
– Пусти меня, Помпония! Если мой час пробил, мы успеем проститься.
И он слегка отстранил ее.
– Дай Бог, чтобы твоя участь была бы и моей, Авл! – сказала она.
И, упав на колени, она стала молиться с такой силой, какую может дать только страх за дорогое существо.
Авл прошел в атрий, где ждал его центурион. Это был старый Кай Гаста, его прежний подчиненный и товарищ по британским войнам.
– Привет тебе, вождь! – сказал он. – Я принес тебе приказ и привет от цезаря, а вот и таблички и знак, удостоверяющие, что я пришел от его имени.
– Благодарю цезаря за привет, а приказ я его исполню, – отвечал Авл. – Привет тебе, Гаста, скажи – какой приказ ты принес?
– Авл Плавций, – начал Гаста, – цезарь узнал, что в твоем доме находится дочь царя Лигийского, которую этот царь еще при жизни божественного Клавдия отдал в руки римлян, в залог того, что границы империи никогда не будут нарушены лигийцами. Божественный Нерон благодарен тебе, вождь, за то, что ты в течение долгих лет оказывал ей гостеприимство, но, не желая больше обременять твой дом, а также принимая во внимание, что девушка эта, как заложница, должна находиться под защитой самого цезаря и сената, – приказывает тебе выдать ее в мои руки.
Авл был слишком закаленный солдат и человек, чтобы, услыхав приказ, позволить себе выразить горе или сказать лишнее слово, тем не менее, на лбу его появилась морщинка внезапного гнева и страдания. Когда-то перед этой морщинкой дрожали британские легионы, и даже в эту минуту на лице Гасты выразился страх. Но теперь Авл Плавций чувствовал себя беспомощным. Он некоторое время смотрел на таблички, на значок, потом, подняв глаза на старого центуриона, проговорил уже спокойно:
– Подожди, Гаста, в атрии, пока заложница будет тебе выдана.
И, сказав это, он пошел в другой конец дома, в залу, которая называлась «oecus», где Помпония Грецина, Лигия и маленький Авл ждали его в тревоге.
– Никому не угрожает ни смерть, ни изгнание на далекие острова, – сказал он, – но тем не менее посол цезаря – есть вестник несчастья. Дело касается тебя, Лигия.
– Лигии? – с изумлением воскликнула Помпония.
– Да! – отвечал Авл.
И, обратившись к девушке, он продолжал:
– Лигия, ты воспитывалась в нашем доме как наше родное дитя, и мы оба с Помпонией любим тебя как дочь. Но ты ведь знаешь, что ты не наша дочь. Ты – заложница, данная Риму твоим народом, и опека над тобой принадлежит цезарю. Вот цезарь и берет тебя из нашего дома.
Вождь говорил спокойно, но каким-то странным, необыкновенным голосом. Лигия слушала его, как будто не понимая; лицо Помпонии покрылось бледностью; в дверях, ведущих из коридора в залу, снова стали показываться встревоженные лица рабынь.
– Воля цезаря должна быть исполнена, – сказал Авл.
– Авл! – воскликнула Помпония, обнимая девушку, как бы защищая ее, – лучше было бы, если б она умерла.
Наступила полная тишина. Вблизи триклиния послышались шаги старого воина, Виниция, Лигии и маленького Авла, но прежде чем они подошли, Петроний спросил ее:
– Значит, ты веришь в богов, Помпония?
– Я верую в Бога единого, всемогущего и справедливого, – отвечала жена Авла Плавция.
III
– Она верует в Бога единого, всемогущего и справедливого, – повторил Петроний в ту минуту, когда снова очутился в носилках с глазу на глаз с Виницием. – Если же Бог всемогущий, значит, в его руках жизнь и смерть, а если он справедлив, то и смерть посылает справедливо. Зачем же тогда Помпония носит траур по Юлии? Своею скорбью она оскорбляет своего бога. Нужно будет повторить это рассуждение нашей меднобородой обезьяне; я прихожу к заключению, что в диалектике я не уступлю и Сократу. А что касается женщин, я согласен, что каждая имеет три или четыре души, но ни одной нет души разумной. Следовало бы Помпонии поговорить с Сенекой и Корнутом о том, что такое их великое «Логос». Пусть бы они вместе вызывали тени Ксенофана, Парменада, Зенона и Платона, которые тоскуют там, в Кимерийских краях, как чижи в клетке. Я собирался говорить с ней и Плавцием совсем о другом. Клянусь священным чревом египетской Изиды, если бы я прямо объявил, зачем мы пришли, их добродетель задребезжала бы как медный щит, по которому ударили палкой! И не посмел! Поверишь ли, Виниций, не посмел! Павлины – красивые птицы, но крик их отвратителен. Я испугался их крика. Однако я должен похвалить твой выбор: настоящая «розопестрая заря»… И знаешь, что она мне еще напоминает? – Весну! И не нашу итальянскую, с кое-где только одевшимися цветами яблонями и серыми оливками, но ту весну, которую я когда-то видел в Гельвеции, – молодую, свежую, светло-зеленую… Клянусь бледной Селеной! Я нисколько, Марк, тебе не удивляюсь, но знай, что ты влюблен в Диану, и что Помпония и Авл готовы тебя растерзать, как некогда псы растерзали Актеона.
Виниций, поникнув головой, молчал, потом заговорил прерывающимся от страсти голосом:
– Я жаждал ее и раньше, а теперь жажду еще сильнее. Когда я взял ее руку, меня охватило пламенем… Она должна быть моей. Если бы я был Зевсом, я окутал бы ее тучей, как он окутал Ио, или пролился бы на нее дождем, как он пролился на Данаю. Я хотел бы целовать уста ее до боли. Я хотел бы слышать ее крик в моих объятиях, хотел бы убить Авла и Помпонию, а ее похитить и на руках донести до моего дома. Я сегодня не засну. Я прикажу бичевать кого-нибудь из рабов и буду слушать его стоны…
– Успокойся! – сказал Петроний. – Что за желания, – как у плотника с улицы Субурры.
– Мне все равно. Она должна быть моей. Я пришел к тебе за советом, но если ты не найдешь средства, я сам найду его… Авл считает Лигию дочерью, зачем же мне смотреть на нее как на рабыню? Поэтому, если нет другого пути, пусть она обовьет двери моего дома, пусть намажет их волчьим салом и сядет у моего очага как законная жена моя!
– Успокойся, безумный потомок консулов. Не затем приводим мы варваров за нашими колесницами на веревках, чтобы потом жениться на их дочерях. Избегай крайностей! Сначала постарайся найти подходящий способ и дай себе и мне время обдумать это дело. Хризотемида также казалась мне дочерью Зевса, а ведь не женился же я на ней, – точно так же и Нерон ведь не женился на Актее, хотя ее и считали дочерью царя Аттала… Успокойся… Подумай, что если она захочет покинуть Авлов ради тебя, они не имеют права ее удерживать; и имей в виду, что не только ты один горишь, но и в ней Эрос зажег огонь… Я это заметил, а мне можно поверить… Имей терпение! На все есть средство, но сегодня я и без того много думал, а это меня утомляет. Зато обещаю тебе, что завтра еще подумаю о твоей любви, и не будь я Петроний, если я не найду какого-нибудь средства.
Он умолк, и оба они молчали некоторое время; Виниций заговорил уже более спокойно:
– Благодарю тебя! Да вознаградит тебя Фортуна!
– Имей терпение!
– Куда ты приказал нести себя?
– К Хризотемиде.
– Счастливый! Ты обладаешь той, которую ты любишь!
– Я? Знаешь, что меня еще связывает с Хризотемидой? То, что она изменяет мне с моим собственным вольноотпущенником, лютнистом Теоклом, и думает, что я этого не вижу. Когда-то я любил ее, а теперь меня забавляет ее ложь и глупость. Пойдем к ней. Если она начнет с тобой заигрывать и выводить на столе буквы пальцем, смоченным в вине, так имей в виду, что я не ревнив.
И они приказали нести себя к Хризотемиде.
Уже в прихожей Петроний положил руку Виниция на плечо и сказал:
– Подожди, мне кажется, я нашел средство…
– Да вознаградят тебя все боги…
– Да, думаю, что средство верное. Знаешь что, Марк?..
– Слушаю тебя, моя Афина!
– Через несколько дней божественная Лигия будет вкушать в твоем доме плоды Деметры.
– Ты более велик, чем цезарь! – воскликнул Виниций в восторге.
IV
Петроний сдержал свое обещание.
На другой день после посещения Хризотемиды он спал, правда, целый день, но вечером приказал отнести себя на Палатинский холм и имел с Нероном тайный разговор, следствием которого было то, что на третий день перед домом Плавция появился центурион во главе десятка преторианских солдат.
Время было тревожное и страшное. Подобного рода посланцы были чаще всего вестниками смерти. Поэтому с той минуты, когда центурион ударил молотом в двери Авла и когда надсмотрщик атрия дал знак, что в сенях находятся солдаты, всем домом овладел ужас. Семья сейчас же окружила старого воина, потому что никто не сомневался, что опасность прежде всего грозила ему. Помпония, обняв его за шею, прижималась к нему, и посиневшие губы ее шептали ему быстро какие-то слова. Лигия с побледневшим, как полотно, лицом целовала его руки; маленький Авл уцепился за его тогу; из коридора, из комнат верхнего этажа, предназначенного для слуг, из бань, из подвальных помещений, из всего дома стали выбегать толпы рабов и рабынь. Послышались возгласы: «heu! heu me, miserium!» – «горе, горе нам, несчастным!» Женщины зарыдали, некоторые царапали себе лицо, накрывали головы платками.
Один только старый воин, в течение многих лет привыкший смотреть смерти прямо в глаза, оставался спокоен; его орлиное лицо стало неподвижно, как бы высеченное из камня. Уняв шум и приказав прислуге разойтись, он сказал:
– Пусти меня, Помпония! Если мой час пробил, мы успеем проститься.
И он слегка отстранил ее.
– Дай Бог, чтобы твоя участь была бы и моей, Авл! – сказала она.
И, упав на колени, она стала молиться с такой силой, какую может дать только страх за дорогое существо.
Авл прошел в атрий, где ждал его центурион. Это был старый Кай Гаста, его прежний подчиненный и товарищ по британским войнам.
– Привет тебе, вождь! – сказал он. – Я принес тебе приказ и привет от цезаря, а вот и таблички и знак, удостоверяющие, что я пришел от его имени.
– Благодарю цезаря за привет, а приказ я его исполню, – отвечал Авл. – Привет тебе, Гаста, скажи – какой приказ ты принес?
– Авл Плавций, – начал Гаста, – цезарь узнал, что в твоем доме находится дочь царя Лигийского, которую этот царь еще при жизни божественного Клавдия отдал в руки римлян, в залог того, что границы империи никогда не будут нарушены лигийцами. Божественный Нерон благодарен тебе, вождь, за то, что ты в течение долгих лет оказывал ей гостеприимство, но, не желая больше обременять твой дом, а также принимая во внимание, что девушка эта, как заложница, должна находиться под защитой самого цезаря и сената, – приказывает тебе выдать ее в мои руки.
Авл был слишком закаленный солдат и человек, чтобы, услыхав приказ, позволить себе выразить горе или сказать лишнее слово, тем не менее, на лбу его появилась морщинка внезапного гнева и страдания. Когда-то перед этой морщинкой дрожали британские легионы, и даже в эту минуту на лице Гасты выразился страх. Но теперь Авл Плавций чувствовал себя беспомощным. Он некоторое время смотрел на таблички, на значок, потом, подняв глаза на старого центуриона, проговорил уже спокойно:
– Подожди, Гаста, в атрии, пока заложница будет тебе выдана.
И, сказав это, он пошел в другой конец дома, в залу, которая называлась «oecus», где Помпония Грецина, Лигия и маленький Авл ждали его в тревоге.
– Никому не угрожает ни смерть, ни изгнание на далекие острова, – сказал он, – но тем не менее посол цезаря – есть вестник несчастья. Дело касается тебя, Лигия.
– Лигии? – с изумлением воскликнула Помпония.
– Да! – отвечал Авл.
И, обратившись к девушке, он продолжал:
– Лигия, ты воспитывалась в нашем доме как наше родное дитя, и мы оба с Помпонией любим тебя как дочь. Но ты ведь знаешь, что ты не наша дочь. Ты – заложница, данная Риму твоим народом, и опека над тобой принадлежит цезарю. Вот цезарь и берет тебя из нашего дома.
Вождь говорил спокойно, но каким-то странным, необыкновенным голосом. Лигия слушала его, как будто не понимая; лицо Помпонии покрылось бледностью; в дверях, ведущих из коридора в залу, снова стали показываться встревоженные лица рабынь.
– Воля цезаря должна быть исполнена, – сказал Авл.
– Авл! – воскликнула Помпония, обнимая девушку, как бы защищая ее, – лучше было бы, если б она умерла.