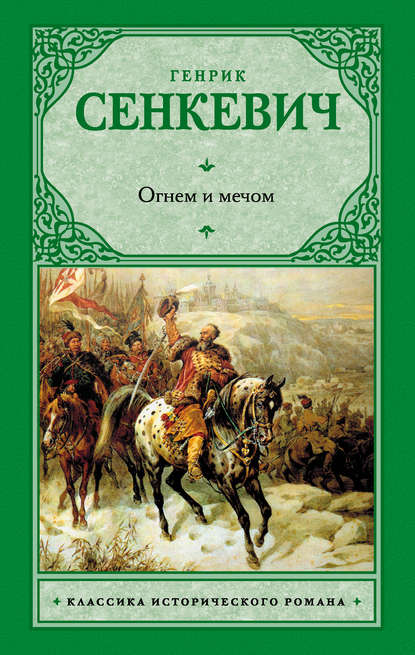По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Огнем и мечом
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Захар, выведи ты меня на шанец поглядеть, что делается.
Захару и самому было интересно, поэтому он не стал отказывать. Они отправились на высокий фланг, откуда как на ладони видна была несколько вогнутая долина, желтоводские болота и оба войска. Едва взглянув, пан Скшетуский схватился за голову и воскликнул:
– Боже Святый! Это же всего-навсего конный отряд, не более!
И правда, брустверы казацкого лагеря протянулись на добрые четверть мили, а польские по сравнению с ними выглядели незначительным редутиком. Разница в силах была столь явная, что в победе казаков невозможно было усомниться.
Сердце наместника сжалось. Не пробил, значит, еще последний час для гордыни и бунта, а тому, который пробьет, суждено ознаменовать новый для них триумф. Так оно, во всяком случае, сейчас казалось.
Стычки под орудийным огнем уже начались. С флангового укрепления были видны и отдельные всадники, и целые группки, мерявшиеся друг с другом силами. Это татары сходились с сине-желтыми казаками Потоцких. Всадники наскакивали друг на друга, проворно разлетались в стороны, объезжали друг друга с боков, перестреливались из пистолетов и луков, метали копья и пытались заарканить один другого. Издали стычки эти казались скорее игрой, и только кони, там и сям бегавшие без всадников по лугу, были свидетельством тому, что игра велась не на жизнь, а на смерть.
Татар становилось все больше и больше. Вскоре луг почернел от скученных их толп, но тут из польского лагеря одна за одною начали выступать хоругви, строясь в боевые порядки впереди шанца. Происходило это так близко, что пан Скшетуский острым взором своим ясно различал значки, бунчуки и даже ротмистров с наместниками, выезжавших вперед и останавливавшихся каждый несколько сбоку от своей хоругви.
Сердце запрыгало в его груди, на бледном лице вспыхнул румянец, и, словно бы найдя благодарных слушателей в Захаре и казаках, стоявших возле пушек на фланговом укреплении, он возбужденно восклицал, по мере того как хоругви появлялись из-за бруствера:
– Это драгуны пана Балабана! Я их в Черкассах видел!
– Это валашская хоругвь, у них крест в значке!
– Вон! Вон и пехота с вала пошла!
Потом все с большим воодушевлением, раскинув руки:
– Гусария! Гусары пана Чарнецкого!
Действительно, появились и гусары, а за спинами их чащоба крыльев, а над ними лес копий, оплетенных золотою китайкою и увенчанных узкими зелено-черными флажками. Они по шестеро выехали из окопа и выстроились перед бруствером, а при виде их спокойствия, сосредоточенности и собранности слезы радости прямо набежали на глаза Скшетускому и на мгновение застлали взор.
Хотя силы были столь неравные, хотя противу нескольких этих хоругвей стояла черная лавина запорожцев и занявших, как обычно, фланги татар, хотя порядки мятежников таково растянулись по степи, что и конца им не было видно, Скшетуский уже верил в победу. Лицо его смеялось, силы вернулись к нему, взор, безотрывно озиравший луговину, сверкал огнем. Он просто на месте устоять не мог.
– Гей, д и т и н о! – буркнул старый Захар. – И рада бы душа в рай!..
Меж тем несколько отдельных татарских отрядов с криками и воплями «алла!» кинулись вперед. Из лагеря ответили выстрелами. Однако татары пока что брали на испуг. Не доскакавши до польских хоругвей, они разлетелись в разные стороны и исчезли среди своих.
И тут подал голос большой сечевой барабан; по сигналу его исполинский татарско-казацкий полумесяц тотчас же рванулся с места вперед. Хмельницкий, как видно, собирался одним ударом смести хоругви и занять лагерь. Случись сумятица, такое стало бы возможно. Однако ничего подобного в польских отрядах не произошло. Они стояли спокойно, развернувшись довольно долгой линией, тыл которой прикрывался окопом, а фланги войсковыми пушками. Следовательно, ударить по ним можно было только с фронта. В какой-то момент казалось, что они примут бой на месте, но, когда полумесяц прошел уже половину луга, в окопе протрубили сигнал к атаке, и мгновенно частокол копий, торчавших до сей поры вверх, разом накренился на высоту конских голов.
– Гусары пошли! – крикнул пан Скшетуский.
И верно, они, склонясь в седлах, двинулись вперед, а вслед им драгунские хоругви и вся боевая линия.
Гусарский удар был страшен. С разгона он пришелся на три куреня – два стеблевских и миргородский – и во мгновение их уничтожил. Вой донесся до ушей пана Скшетуского. Кони и люди, опрокинутые громадной тяжестью железных всадников, полегли, точно нива от выдоха грозы. Сопротивление было столь кратковременно, что Скшетускому показалось, будто некое громадное чудовище одним разом проглотило сразу три полка. А ведь в них были отборнейшие сечевики. Кони в запорожских рядах, напуганные шумом крыльев, перестали повиноваться всадникам. Полки ирклеевский, кальниболоцкий, минский, шкуринский и титоровский совершенно смешали свои ряды, а под напором бегущих с поля боя стали и сами отступать в беспорядке. Тем временем драгуны подоспели за гусарами и вместе с ними принялись вершить кровавую жатву. Васюринский курень после упорного, но короткого сопротивления рассыпался и в диком переполохе мчался прямо на свои же окопы. Центр сил Хмельницкого неотвратимо подавался и, побиваемый, согнанный в беспорядочные толпы, полосуемый мечами, теснимый железным шквалом, никак не мог улучить время, чтобы остановиться и заново перестроиться.
– Ч о р т и, н е л я х и! – крикнул старый Захар.
Скшетуский словно бы умом повредился. Ослабевший от болезни, он никак не мог совладать с собою, а потому смеялся и плакал одновременно, иногда просто выкрикивая слова команды, словно бы сам вел хоругвь. Захар держал его за полы и других еще вынужден был кликнуть на подмогу.
Сражение настолько переместилось к казацким позициям, что уже даже лица можно было различить. Из окопа палили пушки, но казацкие ядра, побивая как своих, так и неприятеля, способствовали замешательству еще более.
Гусары врезались в составлявший гетманскую гвардию пашковский курень, где находился сам Хмельницкий. И тотчас отчаянный вопль потряс все казацкие ряды: огромный малиновый стяг качнулся и упал.
Но тут Кречовский повел в бой пять тысяч своих. Верхом на исполинской буланой лошади, он летел в первой шеренге без шапки, с занесенной саблею, заставляя поворачивать убегавших с поля битвы низовых, а те, увидев спешившие к ним подкрепления, хоть и беспорядочно, но снова пошли в атаку. Дело в середине линии закипело с новою силой.
На обоих флангах счастье тоже отвращалось от Хмельницкого. Татары, уже дважды отбитые валашскими хоругвями и казаками Потоцких, вовсе потеряли кураж. Под Тугай-беем убили двух лошадей. Победа решительно склонялась на сторону молодого Потоцкого.
Битве, однако, не суждено было продолжиться. Ливень, с некоторого времени и так уже изрядно припустивший, вскоре усилился до такой степени, что за стеною дождя ничего не было видно. Уже не струи, но потоки обрушивались на землю из разверзшихся хлябей небесных. Степь обратилась в озеро. Стемнело настолько, что на расстоянии нескольких шагов человек не мог разглядеть другого. Шум дождя заглушал команды. Отсыревшие мушкеты и самопалы умолкли. Само небо положило конец бойне.
Хмельницкий, промокший до нитки, в ярости прискакал в свой стан. Не сказав ни слова, он укрылся в шатерик из верблюжьих шкур, устроенный специально для него, и сидел там в полном одиночестве, думая невеселые думы.
Его охватило отчаяние. Теперь он понимал, на что дерзнул. Вот он и побит, и отброшен, можно даже сказать, почти разбит, притом столь незначительными силами, что их правильнее было почесть передовым отрядом. Он знал, сколь велика военная мощь Речи Посполитой, он учитывал это, когда решил развязать войну, и, однако, вот просчитался. Так, во всяком случае, казалось ему сейчас, поэтому хватался он за подбритую свою голову, и более всего хотелось ему размозжить ее о первую попавшуюся пушку. Что же будет, когда дойдет до дела с гетманами и всею Речью Посполитой?
Отчаяние его прервал приход Тугай-бея.
Взор татарина пылал бешенством, лицо было бледно, из-под безусой губы поблескивали зубы.
– Где добыча? Где пленные? Где головы военачальников? Где победа? – стал спрашивать он хрипло.
Хмельницкий сорвался с места.
– Там! – указуя в сторону коронного стана, громогласно ответил он.
– Иди же туда! – рявкнул Тугай-бей. – А не пойдешь, в Крым тебя на веревке поведу.
– И пойду! – сказал Хмельницкий. – Пойду на них еще сегодня! Добычу возьму и пленных возьму, но тебе за то придется с ханом объясниться, ибо добычи хочешь, а боя избегаешь!
– Пес! – завыл Тугай-бей. – Ты же ханское войско губишь!
С минуту стояли они друг перед другом, раздувая ноздри, точно два одинца. Первым взял себя в руки Хмельницкий.
– Тугай-бей, успокойся! – сказал он. – Небеса прекратили битву, когда Кречовский уже поколебал драгун. Я их знаю! Завтра они будут биться с меньшим задором. Степь размокнет совсем. Гусары не устоят. Завтра все будут наши.
– Ты сказал! – буркнул Тугай-бей.
– И сдержу слово. Тугай-бей, друг мой, хан мне тебя на подмогу прислал, не на беду.
– Ты победить клялся, не проиграть.
– Есть пленные драгуны, хочешь, бери их.
– Давай. Я их на кол велю посадить.
– Не делай этого. Лучше отпусти. Это украинные люди из хоругви Балабана; мы их пошлем, чтобы драгун на нашу сторону перетянули. Будет как с Кречовским.
Тугай-бей, поостыв, быстро глянул на Хмельницкого и пробормотал:
– Змей…
– Хитрость мужеству в цене не уступает. Если склонить драгун к измене, ни один человек из ихних не уйдет, понял?
– Потоцкого возьму я.
Захару и самому было интересно, поэтому он не стал отказывать. Они отправились на высокий фланг, откуда как на ладони видна была несколько вогнутая долина, желтоводские болота и оба войска. Едва взглянув, пан Скшетуский схватился за голову и воскликнул:
– Боже Святый! Это же всего-навсего конный отряд, не более!
И правда, брустверы казацкого лагеря протянулись на добрые четверть мили, а польские по сравнению с ними выглядели незначительным редутиком. Разница в силах была столь явная, что в победе казаков невозможно было усомниться.
Сердце наместника сжалось. Не пробил, значит, еще последний час для гордыни и бунта, а тому, который пробьет, суждено ознаменовать новый для них триумф. Так оно, во всяком случае, сейчас казалось.
Стычки под орудийным огнем уже начались. С флангового укрепления были видны и отдельные всадники, и целые группки, мерявшиеся друг с другом силами. Это татары сходились с сине-желтыми казаками Потоцких. Всадники наскакивали друг на друга, проворно разлетались в стороны, объезжали друг друга с боков, перестреливались из пистолетов и луков, метали копья и пытались заарканить один другого. Издали стычки эти казались скорее игрой, и только кони, там и сям бегавшие без всадников по лугу, были свидетельством тому, что игра велась не на жизнь, а на смерть.
Татар становилось все больше и больше. Вскоре луг почернел от скученных их толп, но тут из польского лагеря одна за одною начали выступать хоругви, строясь в боевые порядки впереди шанца. Происходило это так близко, что пан Скшетуский острым взором своим ясно различал значки, бунчуки и даже ротмистров с наместниками, выезжавших вперед и останавливавшихся каждый несколько сбоку от своей хоругви.
Сердце запрыгало в его груди, на бледном лице вспыхнул румянец, и, словно бы найдя благодарных слушателей в Захаре и казаках, стоявших возле пушек на фланговом укреплении, он возбужденно восклицал, по мере того как хоругви появлялись из-за бруствера:
– Это драгуны пана Балабана! Я их в Черкассах видел!
– Это валашская хоругвь, у них крест в значке!
– Вон! Вон и пехота с вала пошла!
Потом все с большим воодушевлением, раскинув руки:
– Гусария! Гусары пана Чарнецкого!
Действительно, появились и гусары, а за спинами их чащоба крыльев, а над ними лес копий, оплетенных золотою китайкою и увенчанных узкими зелено-черными флажками. Они по шестеро выехали из окопа и выстроились перед бруствером, а при виде их спокойствия, сосредоточенности и собранности слезы радости прямо набежали на глаза Скшетускому и на мгновение застлали взор.
Хотя силы были столь неравные, хотя противу нескольких этих хоругвей стояла черная лавина запорожцев и занявших, как обычно, фланги татар, хотя порядки мятежников таково растянулись по степи, что и конца им не было видно, Скшетуский уже верил в победу. Лицо его смеялось, силы вернулись к нему, взор, безотрывно озиравший луговину, сверкал огнем. Он просто на месте устоять не мог.
– Гей, д и т и н о! – буркнул старый Захар. – И рада бы душа в рай!..
Меж тем несколько отдельных татарских отрядов с криками и воплями «алла!» кинулись вперед. Из лагеря ответили выстрелами. Однако татары пока что брали на испуг. Не доскакавши до польских хоругвей, они разлетелись в разные стороны и исчезли среди своих.
И тут подал голос большой сечевой барабан; по сигналу его исполинский татарско-казацкий полумесяц тотчас же рванулся с места вперед. Хмельницкий, как видно, собирался одним ударом смести хоругви и занять лагерь. Случись сумятица, такое стало бы возможно. Однако ничего подобного в польских отрядах не произошло. Они стояли спокойно, развернувшись довольно долгой линией, тыл которой прикрывался окопом, а фланги войсковыми пушками. Следовательно, ударить по ним можно было только с фронта. В какой-то момент казалось, что они примут бой на месте, но, когда полумесяц прошел уже половину луга, в окопе протрубили сигнал к атаке, и мгновенно частокол копий, торчавших до сей поры вверх, разом накренился на высоту конских голов.
– Гусары пошли! – крикнул пан Скшетуский.
И верно, они, склонясь в седлах, двинулись вперед, а вслед им драгунские хоругви и вся боевая линия.
Гусарский удар был страшен. С разгона он пришелся на три куреня – два стеблевских и миргородский – и во мгновение их уничтожил. Вой донесся до ушей пана Скшетуского. Кони и люди, опрокинутые громадной тяжестью железных всадников, полегли, точно нива от выдоха грозы. Сопротивление было столь кратковременно, что Скшетускому показалось, будто некое громадное чудовище одним разом проглотило сразу три полка. А ведь в них были отборнейшие сечевики. Кони в запорожских рядах, напуганные шумом крыльев, перестали повиноваться всадникам. Полки ирклеевский, кальниболоцкий, минский, шкуринский и титоровский совершенно смешали свои ряды, а под напором бегущих с поля боя стали и сами отступать в беспорядке. Тем временем драгуны подоспели за гусарами и вместе с ними принялись вершить кровавую жатву. Васюринский курень после упорного, но короткого сопротивления рассыпался и в диком переполохе мчался прямо на свои же окопы. Центр сил Хмельницкого неотвратимо подавался и, побиваемый, согнанный в беспорядочные толпы, полосуемый мечами, теснимый железным шквалом, никак не мог улучить время, чтобы остановиться и заново перестроиться.
– Ч о р т и, н е л я х и! – крикнул старый Захар.
Скшетуский словно бы умом повредился. Ослабевший от болезни, он никак не мог совладать с собою, а потому смеялся и плакал одновременно, иногда просто выкрикивая слова команды, словно бы сам вел хоругвь. Захар держал его за полы и других еще вынужден был кликнуть на подмогу.
Сражение настолько переместилось к казацким позициям, что уже даже лица можно было различить. Из окопа палили пушки, но казацкие ядра, побивая как своих, так и неприятеля, способствовали замешательству еще более.
Гусары врезались в составлявший гетманскую гвардию пашковский курень, где находился сам Хмельницкий. И тотчас отчаянный вопль потряс все казацкие ряды: огромный малиновый стяг качнулся и упал.
Но тут Кречовский повел в бой пять тысяч своих. Верхом на исполинской буланой лошади, он летел в первой шеренге без шапки, с занесенной саблею, заставляя поворачивать убегавших с поля битвы низовых, а те, увидев спешившие к ним подкрепления, хоть и беспорядочно, но снова пошли в атаку. Дело в середине линии закипело с новою силой.
На обоих флангах счастье тоже отвращалось от Хмельницкого. Татары, уже дважды отбитые валашскими хоругвями и казаками Потоцких, вовсе потеряли кураж. Под Тугай-беем убили двух лошадей. Победа решительно склонялась на сторону молодого Потоцкого.
Битве, однако, не суждено было продолжиться. Ливень, с некоторого времени и так уже изрядно припустивший, вскоре усилился до такой степени, что за стеною дождя ничего не было видно. Уже не струи, но потоки обрушивались на землю из разверзшихся хлябей небесных. Степь обратилась в озеро. Стемнело настолько, что на расстоянии нескольких шагов человек не мог разглядеть другого. Шум дождя заглушал команды. Отсыревшие мушкеты и самопалы умолкли. Само небо положило конец бойне.
Хмельницкий, промокший до нитки, в ярости прискакал в свой стан. Не сказав ни слова, он укрылся в шатерик из верблюжьих шкур, устроенный специально для него, и сидел там в полном одиночестве, думая невеселые думы.
Его охватило отчаяние. Теперь он понимал, на что дерзнул. Вот он и побит, и отброшен, можно даже сказать, почти разбит, притом столь незначительными силами, что их правильнее было почесть передовым отрядом. Он знал, сколь велика военная мощь Речи Посполитой, он учитывал это, когда решил развязать войну, и, однако, вот просчитался. Так, во всяком случае, казалось ему сейчас, поэтому хватался он за подбритую свою голову, и более всего хотелось ему размозжить ее о первую попавшуюся пушку. Что же будет, когда дойдет до дела с гетманами и всею Речью Посполитой?
Отчаяние его прервал приход Тугай-бея.
Взор татарина пылал бешенством, лицо было бледно, из-под безусой губы поблескивали зубы.
– Где добыча? Где пленные? Где головы военачальников? Где победа? – стал спрашивать он хрипло.
Хмельницкий сорвался с места.
– Там! – указуя в сторону коронного стана, громогласно ответил он.
– Иди же туда! – рявкнул Тугай-бей. – А не пойдешь, в Крым тебя на веревке поведу.
– И пойду! – сказал Хмельницкий. – Пойду на них еще сегодня! Добычу возьму и пленных возьму, но тебе за то придется с ханом объясниться, ибо добычи хочешь, а боя избегаешь!
– Пес! – завыл Тугай-бей. – Ты же ханское войско губишь!
С минуту стояли они друг перед другом, раздувая ноздри, точно два одинца. Первым взял себя в руки Хмельницкий.
– Тугай-бей, успокойся! – сказал он. – Небеса прекратили битву, когда Кречовский уже поколебал драгун. Я их знаю! Завтра они будут биться с меньшим задором. Степь размокнет совсем. Гусары не устоят. Завтра все будут наши.
– Ты сказал! – буркнул Тугай-бей.
– И сдержу слово. Тугай-бей, друг мой, хан мне тебя на подмогу прислал, не на беду.
– Ты победить клялся, не проиграть.
– Есть пленные драгуны, хочешь, бери их.
– Давай. Я их на кол велю посадить.
– Не делай этого. Лучше отпусти. Это украинные люди из хоругви Балабана; мы их пошлем, чтобы драгун на нашу сторону перетянули. Будет как с Кречовским.
Тугай-бей, поостыв, быстро глянул на Хмельницкого и пробормотал:
– Змей…
– Хитрость мужеству в цене не уступает. Если склонить драгун к измене, ни один человек из ихних не уйдет, понял?
– Потоцкого возьму я.