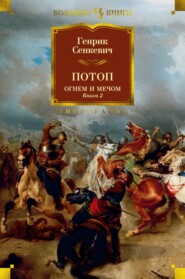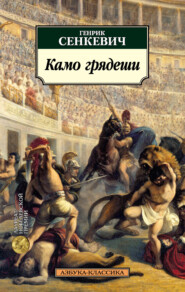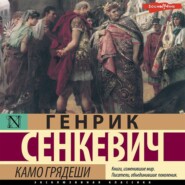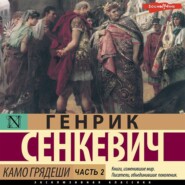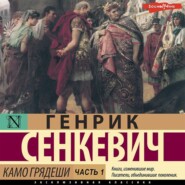По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Огнем и мечом
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ответа не было. Призывы прозвучали и в третий раз, но уже резче и нетерпеливее:
– Пугу! Пугу!
Тогда со стороны челнов из тумана раздался голос Кречовского:
– Кто еще там?
– Казак с лугу!
У солдат, затаившихся на байдаках, беспокойно забились сердца. Им этот таинственный оклик был хорошо знаком. С его помощью запорожцы опознавали друг друга на зимовниках. Этим же самым манером в военное время приглашали на переговоры реестровых и городовых собратьев, среди которых было немало тайно принадлежавших к братству.
Снова раздался голос Кречовского:
– Чего надо?
– Богдан Хмельницкий, гетман запорожский, предупреждает, что пушки наведены на излучину.
– Передайте гетману запорожскому, что наши наведены на берег.
– Пугу! Пугу!
– Чего еще надо?
– Богдан Хмельницкий, гетман запорожский, приглашает на разговор друга своего, пана полковника Кречовского.
– Пускай сперва заложников выставит.
– Десять куренных.
– Идет!
В ту же секунду берег излучины, точно цветами, зацвел фигурами запорожцев, вскочивших на ноги из трав, где они, затаившись, прятались. Издали, со стороны степи, появилась их конница и пушки, над которыми развевались десятки и сотни стягов, знамен и бунчуков. Шли отряды под барабан и с песней. Все это скорее походило на радостное привечание, чем на столкновение враждебных друг другу войск.
Солдаты с байдаков ответили криками. Тем временем подошли челны, доставившие куренных атаманов. Кречовский сел в один из них и направился к берегу. Там ему подвели коня и сразу же препроводили к Хмельницкому.
Тот, завидев его, снял шапку, а затем радушно приветствовал.
– Любезный полковник! – сказал он. – Старый друг мой и кум! Когда коронный гетман велел тебе ловить меня и доставить, ты этого делать не стал, а меня надоумил спастись бегством, за каковой твой поступок я обязан тебе благодарностью и братской любовью.
Сказав это, он чуть ли не с почтением протянул руку, но темное лицо Кречовского осталось холодно, точно лед.
– Теперь же, когда ты, досточтимый гетман, спасся, – сказал он, – ты поднял восстание.
– За свои это, твои и всей Украины обиды иду я взыскивать с привилегиями королевскими в руках, оставаясь в надежде, что государь наш милостивый не поставит мне это в вину.
Кречовский, быстро заглядывая в глаза Хмельницкому, с нажимом сказал:
– Кудак осадил?
– Я? Ума я лишился, что ли? Кудак я обошел и даже ни разу не выстрелил, хотя кривой старик оповестил о себе пушками. Мне на Украйну спешно было, не в Кудак; к тебе спешно было, к старому другу и благодетелю моему.
– Чего тебе от меня надобно?
– Давай отъедем маленько в степь, там и поговорим.
Оба тронули коней и поехали. Отсутствовали они около часа. По возвращении лицо Кречовского было бледно и страшно. Он почти тотчас же стал прощаться с Хмельницким, сказавшим ему напутно:
– Двое нас будет на Украйне, а над нами только король, и более никого.
Кречовский вернулся к байдакам. Старый Барабаш, Флик и весь казацкий чин ожидали его с нетерпением.
– Ну что? Ну что? – послышалось со всех сторон.
– Всем высадиться на берег! – повелительным тоном скомандовал Кречовский.
Барабаш поднял заспанные веки, какое-то странное пламя сверкнуло в глазах старика.
– Как это? – спросил он.
– Всем на берег! Мы сдаемся!
Кровь прихлынула на бледное и пожелтевшее лицо Барабаша. Он поднялся с места, на котором сидел, выпрямился, и внезапно этот сгорбленный, одряхлевший человек преобразился в исполина, полного сил и бодрости.
– Измена! – рявкнул он.
– Измена! – повторил Флик, хватаясь за рукоять рапиры.
Но прежде чем он ее выхватил, Кречовский свистнул саблей и одним ударом уложил его на палубе.
Затем он спрыгнул с байдака в челнок, стоявший рядом, где четверо запорожцев держали весла наготове, и крикнул:
– Греби между байдаков!
Челнок помчался стрелой, а Кречовский, выпрямившись, с горящим взором и шапкой на окровавленной сабле, кричал могучим голосом:
– Дети! Не станем убивать своих! Слава Богдану Хмельницкому, гетману запорожскому!
– Слава! – откликнулись сотни и тысячи голосов.
– На погибель ляхам!
– На погибель!
Воплям с байдаков отвечали крики запорожцев с берега, однако те, кто находился на челнах, стоявших в отдалении, еще не понимали, в чем дело, и лишь когда повсюду разнеслась весть, что Кречовский переходит к запорожцам, истинное безумие радости охватило казаков. Шесть тысяч шапок взлетело в воздух, шесть тысяч мушкетов грохнули выстрелами. Байдаки заходили под стопами молодцев. Поднялся гвалт и замешательство. Но радости этой суждено было, однако, обагриться кровью, ибо старик Барабаш предпочел умереть, чем предать знамя, под которым прослужил всю свою жизнь. Несколько десятков черкасских людей не покинули его, и завязался бой, короткий, страшный, как все сражения, в которых горстка людей, ищущая не милости, но смерти, обороняется от натиска толпы. Ни Кречовский, ни казаки не ожидали такого сопротивления. В старом полковнике проснулся прежний лев. На призыв сложить оружие он ответил выстрелами, оставаясь у всех на виду с булавою в руке, с развевающимися белыми волосами и с юношеским пылом отдающий зычным голосом приказания. Челн его был окружен со всех сторон. Люди с байдаков, не имевшие возможности подгрести, прыгали в воду и, вплавь или продираясь сквозь камыши, достигнув челна, хватались за борта и в бешенстве на него карабкались. Сопротивление было недолгим. Верные Барабашу казаки, исколотые, изрубленные, просто растерзанные руками, покрыли своими телами палубу; старик же с саблею в руке еще защищался.
Челнок помчался стрелой, а Кречовский, выпрямившись, с горящим взором и шапкой на окровавленной сабле, кричал могучим голосом…
Кречовский пробился к нему.
– Пугу! Пугу!
Тогда со стороны челнов из тумана раздался голос Кречовского:
– Кто еще там?
– Казак с лугу!
У солдат, затаившихся на байдаках, беспокойно забились сердца. Им этот таинственный оклик был хорошо знаком. С его помощью запорожцы опознавали друг друга на зимовниках. Этим же самым манером в военное время приглашали на переговоры реестровых и городовых собратьев, среди которых было немало тайно принадлежавших к братству.
Снова раздался голос Кречовского:
– Чего надо?
– Богдан Хмельницкий, гетман запорожский, предупреждает, что пушки наведены на излучину.
– Передайте гетману запорожскому, что наши наведены на берег.
– Пугу! Пугу!
– Чего еще надо?
– Богдан Хмельницкий, гетман запорожский, приглашает на разговор друга своего, пана полковника Кречовского.
– Пускай сперва заложников выставит.
– Десять куренных.
– Идет!
В ту же секунду берег излучины, точно цветами, зацвел фигурами запорожцев, вскочивших на ноги из трав, где они, затаившись, прятались. Издали, со стороны степи, появилась их конница и пушки, над которыми развевались десятки и сотни стягов, знамен и бунчуков. Шли отряды под барабан и с песней. Все это скорее походило на радостное привечание, чем на столкновение враждебных друг другу войск.
Солдаты с байдаков ответили криками. Тем временем подошли челны, доставившие куренных атаманов. Кречовский сел в один из них и направился к берегу. Там ему подвели коня и сразу же препроводили к Хмельницкому.
Тот, завидев его, снял шапку, а затем радушно приветствовал.
– Любезный полковник! – сказал он. – Старый друг мой и кум! Когда коронный гетман велел тебе ловить меня и доставить, ты этого делать не стал, а меня надоумил спастись бегством, за каковой твой поступок я обязан тебе благодарностью и братской любовью.
Сказав это, он чуть ли не с почтением протянул руку, но темное лицо Кречовского осталось холодно, точно лед.
– Теперь же, когда ты, досточтимый гетман, спасся, – сказал он, – ты поднял восстание.
– За свои это, твои и всей Украины обиды иду я взыскивать с привилегиями королевскими в руках, оставаясь в надежде, что государь наш милостивый не поставит мне это в вину.
Кречовский, быстро заглядывая в глаза Хмельницкому, с нажимом сказал:
– Кудак осадил?
– Я? Ума я лишился, что ли? Кудак я обошел и даже ни разу не выстрелил, хотя кривой старик оповестил о себе пушками. Мне на Украйну спешно было, не в Кудак; к тебе спешно было, к старому другу и благодетелю моему.
– Чего тебе от меня надобно?
– Давай отъедем маленько в степь, там и поговорим.
Оба тронули коней и поехали. Отсутствовали они около часа. По возвращении лицо Кречовского было бледно и страшно. Он почти тотчас же стал прощаться с Хмельницким, сказавшим ему напутно:
– Двое нас будет на Украйне, а над нами только король, и более никого.
Кречовский вернулся к байдакам. Старый Барабаш, Флик и весь казацкий чин ожидали его с нетерпением.
– Ну что? Ну что? – послышалось со всех сторон.
– Всем высадиться на берег! – повелительным тоном скомандовал Кречовский.
Барабаш поднял заспанные веки, какое-то странное пламя сверкнуло в глазах старика.
– Как это? – спросил он.
– Всем на берег! Мы сдаемся!
Кровь прихлынула на бледное и пожелтевшее лицо Барабаша. Он поднялся с места, на котором сидел, выпрямился, и внезапно этот сгорбленный, одряхлевший человек преобразился в исполина, полного сил и бодрости.
– Измена! – рявкнул он.
– Измена! – повторил Флик, хватаясь за рукоять рапиры.
Но прежде чем он ее выхватил, Кречовский свистнул саблей и одним ударом уложил его на палубе.
Затем он спрыгнул с байдака в челнок, стоявший рядом, где четверо запорожцев держали весла наготове, и крикнул:
– Греби между байдаков!
Челнок помчался стрелой, а Кречовский, выпрямившись, с горящим взором и шапкой на окровавленной сабле, кричал могучим голосом:
– Дети! Не станем убивать своих! Слава Богдану Хмельницкому, гетману запорожскому!
– Слава! – откликнулись сотни и тысячи голосов.
– На погибель ляхам!
– На погибель!
Воплям с байдаков отвечали крики запорожцев с берега, однако те, кто находился на челнах, стоявших в отдалении, еще не понимали, в чем дело, и лишь когда повсюду разнеслась весть, что Кречовский переходит к запорожцам, истинное безумие радости охватило казаков. Шесть тысяч шапок взлетело в воздух, шесть тысяч мушкетов грохнули выстрелами. Байдаки заходили под стопами молодцев. Поднялся гвалт и замешательство. Но радости этой суждено было, однако, обагриться кровью, ибо старик Барабаш предпочел умереть, чем предать знамя, под которым прослужил всю свою жизнь. Несколько десятков черкасских людей не покинули его, и завязался бой, короткий, страшный, как все сражения, в которых горстка людей, ищущая не милости, но смерти, обороняется от натиска толпы. Ни Кречовский, ни казаки не ожидали такого сопротивления. В старом полковнике проснулся прежний лев. На призыв сложить оружие он ответил выстрелами, оставаясь у всех на виду с булавою в руке, с развевающимися белыми волосами и с юношеским пылом отдающий зычным голосом приказания. Челн его был окружен со всех сторон. Люди с байдаков, не имевшие возможности подгрести, прыгали в воду и, вплавь или продираясь сквозь камыши, достигнув челна, хватались за борта и в бешенстве на него карабкались. Сопротивление было недолгим. Верные Барабашу казаки, исколотые, изрубленные, просто растерзанные руками, покрыли своими телами палубу; старик же с саблею в руке еще защищался.
Челнок помчался стрелой, а Кречовский, выпрямившись, с горящим взором и шапкой на окровавленной сабле, кричал могучим голосом…
Кречовский пробился к нему.