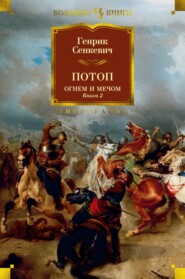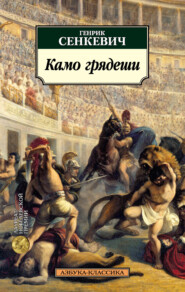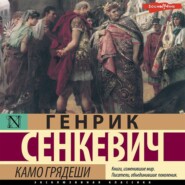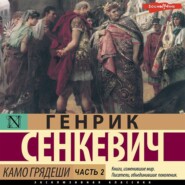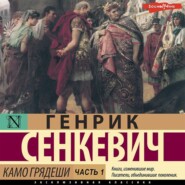По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Огнем и мечом
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Хмельницкий сидел за столом, безмолвный и отсутствующий.
Вдруг он словно бы очнулся, поглядел на наместника и сказал:
– Сударь наместник, ты свободен.
– Благодарствуй, досточтимый гетман запорожский, хотя не скрою, что предпочел бы кого другого за свободу благодарить.
– Тогда не благодари. Ты спас мне жизнь, я добром отплатил – вот мы и квиты. Но хочу сказать тебе вот что: если не дашь рыцарского слова, что не расскажешь своим о наших приготовлениях, о численности войска нашего или о чем еще, что на Сечи видал, я тебя пока не отпущу.
– Значит, напрасно ты мне fructum[57 - Плод (лат.).] свободы дал вкусить, потому что такого слова я не дам, ибо, давши его, поступлю как те, кто к недругу перебегают.
– И жизнь моя, и благополучие всего Запорожского войска сейчас в том, чтобы великий гетман не пошел на нас со всеми силами, что он не преминет сделать, если ты ему о наших расскажешь, так что, если не дашь слова, я тебя не отпущу до тех пор, пока не почувствую себя достаточно уверенно. Знаю я, на что замахнулся, знаю, какая страшная сила противостоит мне: оба гетмана, грозный твой князь, один целого войска стоящий, да Заславские, да Конецпольские, да все эти королята, на вые казацкой стопу утвердившие! Воистину немало я потрудился, немало писем понаписал, прежде чем удалось мне подозрительность их усыпить, – так могу ли я теперь позволить, чтобы ты разбудил ее? Ежели и чернь, и городовые казаки, и все утесненные в вере да свободе выступят на моей стороне, как Запорожское войско и милостивый хан крымский, тогда полагаю я совладать с неприятелем, ибо и мои силы значительны будут, но всего более вверяюсь я Богу, который видел кривды и знает невиновность мою.
Хмельницкий опрокинул чарку и стал беспокойно расхаживать вокруг стола, пан же Скшетуский смерил его взглядом и, напирая на каждое слово, сказал:
– Не богохульствуй, гетман запорожский, на Бога и высочайшее покровительство Его рассчитывая, ибо воистину только гнев Божий и скорейшую кару навлечешь на себя. Тебе ли пристало взывать к Всевышнему, тебе ли, который собственных обид и приватных распрей ради столь ужасную бурю поднимаешь, раздуваешь пламя усобицы и с басурманами противу христиан объединяешься? Победишь ли ты или окажешься побежденным – море человеческой крови и слез прольешь, хуже саранчи землю опустошишь, родную кровь поганым в неволю отдашь. Речь Посполитую поколеблешь, монарха оскорбишь, алтари Господни поругаешь, а все потому, что Чаплинский хутор у тебя отнял, что, пьяным будучи, угрожал тебе! Так на что же ты руку не поднимешь? Чего корысти своей ради не принесешь в жертву? Богу себя вверяешь? А я, хоть и нахожусь в твоих руках, хоть ты меня живота и свободы лишить можешь, истинно говорю тебе: Сатану, не Господа в заступники призывай, ибо единственно ад споспешествовать тебе может!
Хмельницкий побагровел, схватился за рукоять сабли и глянул на пленника, как лев, который вот-вот зарычит и кинется на свою жертву. Однако же он сдержался. К счастью, гетман не был пока что пьян, но охватила его, казалось, безотчетная тревога, казалось, некие голоса взмолились в душе его: «Повороти с дороги!» – ибо вдруг, словно бы желая отвязаться от собственных мыслей или убедить самого себя, стал говорить он вот что:
– От другого не стерпел бы я таких речей, но и ты поостерегись, чтобы дерзость твоя моему терпению конец не положила. Адом меня пугаешь, о корысти моей и предательстве мне проповедуешь, а почем ты знаешь, что я только за собственные обиды воздать иду? Где бы я нашел соратников, где бы взял тьмы эти, которые уже перешли на мою сторону и еще перейдут, когда бы собственные только обиды взыскать вознамерился? Погляди, что на Украйне творится. Гей! Земля-кормилица, земля-матушка, землица родимая, а кто тут в завтрашнем дне уверен? Кто тут счастлив? Кто веры не лишен, свободы не потерял, кто тут не плачет и не стенает? Только Вишневецкие, да Потоцкие, да Заславские, да Конецпольские, да Калиновские, да горстка шляхты! Для них староства, чины, земля, люди, для них счастье и бесценная свобода, а прочий народ в слезах руки к небу заламывает, уповая на суд Божий, ибо и королевский не помогает! Сколько же – шляхты даже! – невыносимого их гнета не умея стерпеть, на Сечь сбегает, как и я сбежал? Я ведь войны с королем не ищу, не ищу и с Речью Посполитой! Она – мать, он – отец! Король – государь милостивый, но королята! С ними нам не жить, это их лихоимство, это их аренды, ставщины, поемщины, сухомельщины, очковые и роговые, это их тиранство и гнет, через евреев совершаемые, к небесам о возмездии вопиют. Какой такой благодарности дождалось войско Запорожское за свои великие услуги, в многочисленных войнах оказанные? Где казацкие привилегии? Король дал, королята отняли. Наливайко четвертован! Павлюк в медном быке сожжен! Еще не зажили раны, которые нам сабля Жолкевского и Конецпольского нанесла! Слезы не высохли по убиенным, обезглавленным, на кол посаженным! И вот – гляди – что на небесах светит! – Тут Хмельницкий показал в окошке пылающую комету. – Гнев Божий! Бич Божий!.. И коли суждено мне на земле бичом этим стать, да свершится воля Господня! Я сие бремя на плечи принимаю.
Сказав это, он простер руки горе и весь, казалось, воспылал, точно огромный факел возмездия, и затрясся весь, а потом рухнул на лавку, точно непомерной тяжестью предназначения своего придавленный.
Воцарилась тишина, нарушаемая только храпом Тугай-бея и кошевого, да еще в углу хаты жалобно пиликал сверчок.
Наместник сидел, опустив голову и, казалось, ища ответа на слова Хмельницкого, тяжкие, точно гранитные глыбы, но вот и он заговорил голосом тихим и печальным:
– О, пусть бы все это и было правдой, но кто же ты такой, гетман, чтобы судьею и палачом себя поставить? Какая тебя жестокость, какая гордыня подвигает? Зачем ты Богу суда и кары не оставляешь? Я зла не защищаю, обид не одобряю, притеснений законом не нарекаю, но вглядись же в себя, гетман! На утеснения от королят жалуешься, говоришь, что ни королю, ни закону повиноваться не желают, спесь их порицаешь, а разве сам ты без греха? Сам разве не поднял руку на Речь Посполитую, закон и престол? Тиранство панов и шляхты видишь, но того видеть не желаешь, что ежели бы не их груди, не их брони, не их могущество, не их замки, не их пушки и полки, тогда бы земля эта, млеком и медом текущая, под стократ тяжелейшим турецким или татарским ярмом стенала! Ибо кто бы защитил ее? Чьим это могуществом и покровительством дети ваши в янычарах не служат, а жены в паскудные гаремы не похищаются? Кто заселяет пустоши, закладывает города и села, воздвигает храмы Божьи?..
Тут голос Скшетуского стал делаться все громче и громче, а Хмельницкий, угрюмо уставившись в четверть водки, стиснутые кулаки на стол положил и молчал, словно бы сам с собою боролся.
– Так кто же они? – продолжал пан Скшетуский. – Из немцев сюда пришли или из Туретчины? Не кровь ли это от крови, не плоть ли от плоти вашей? Не ваша ли это шляхта, не ваши княжата? А если оно так, тогда горе тебе, гетман, ибо ты младших братьев на старших поднимаешь и братоубийцами их делаешь. Боже ты мой! Пусть и плохи они, пускай даже все – а это не так! – попирают законы, ругаются над привилегиями, так их же Богу в небесах судить, а на земле сеймам, но не тебе, гетман! Ибо можешь ли ты поручиться, что меж ваших сплошь праведники? Разве же вы никогда не согрешили, разве имеете право бросить камень в чужой грех? А уж коли ты меня пытал – где они, мол, привилегии казацкие? – так я отвечу тебе: не королята их разорвали, но запорожцы, но Лобода, Сашко, Наливайко и Павлюк, о котором лжешь, что он в медном быке был поджарен, ибо тебе хорошо известно, что так не было! Разорвали их бунты ваши, разорвали их смуты и набеги, на манер татарских учиняемые. Кто татар в рубежи Речи Посполитой пускал, чтобы затем на возвращающихся и награбленным отягощенных добычи ради нападать? Вы! Кто – господи! – народ христианский, своих, ясырями отдавал? Кто величайшие смутьянства затевал? Вы! От кого ни шляхтич, ни купец, ни кмет не упасутся? От вас! Кто братоубийственные войны раздувал, дотла жег деревни и города украинные, грабил храмы Божьи, бесчестил женщин? Вы, и еще раз вы! Чего же ты теперь хочешь? Чтобы вам привилегии на братоубийственную войну, разбой и грабительство были даны? Воистину вам более прощено, чем отнято! Ибо хотели мы membra putrida[58 - Гниющие члены (лат.).] лечить, не отсекать[59 - Исторические слова Жолкевского. (Примеч. автора.)], и не знаю – есть ли такая держава на свете, кроме Речи Посполитой, которая бы, таковую язву на собственной груди имея, столько снисхождения и терпеливости проявила! А какая благодарность за все это? Вот он спит, твой союзник, но Речи Посполитой враг заклятый; твой приятель, но супостат креста и христианства, не королишко украинный, но мурза крымский!.. С ним ты пойдешь жечь собственное гнездо, с ним пойдешь судить братьев! Но ведь он тебе впредь господином будет, ему стремя будешь держать!
Хмельницкий опорожнил еще чарку.
– Когда мы с Барабашем в свое время у милостивого короля были, – ответил он угрюмо, – и когда жалились на кривды и утеснения, государь сказал: «А разве не при вас самопалы, разве не при сабле вы?»
– А если б ты Царю Царей предстал, тот сказал бы: «Простишь ли врагам своим, яко я своим простил?»
– С Речью Посполитой я войны не хочу!
– А меч ей к горлу приставляешь!
– Казаков иду из цепей ваших вызволить.
– Чтобы связать их лыками татарскими!
– Веру защитить!
– С неверным на пару.
– Отыди же, ибо не ты голос моей совести! Прочь! Слышишь?
– Кровь пролитая тебя отягчит, слезы людские обвинят, смерть суждена тебе, суд ожидает.
– Не каркай! – закричал в бешенстве Хмельницкий и блеснул ножом у наместниковой груди.
– Бей! – сказал пан Скшетуский.
И снова на мгновение воцарилась тишина, снова было слыхать только храп спящих да жалобное поскрипывание сверчка.
Хмельницкий какое-то время держал нож у груди Скшетуского, однако, содрогнувшись вдруг, опомнившись, нож уронил и, схватив четверть, припал к ней. Выпив почти все, он тяжело сел на лавку.
– Не могу его прирезать! – забормотал он. – Не могу! Поздно уже… Неужто рассветает?.. И на попятный идти поздно… Что ты мне о суде и крови говоришь?
Он и до того уже немало выпил, поэтому теперь водка ударила ему в голову, вовсе спутав мысли.
– Какой такой суд, а? Хан мне подмогу обещал. Вон Тугай-бей спит! Завтра молодцы двинутся… С нами святой Михаил-архистратиг! А ежели… ежели… то… Я тебя у Тугай-бея выкупил – ты это помни и скажи… Вот! Болит что-то… болит! На попятный… поздно!.. Суд… Наливайко… Павлюк…
Вдруг он выпрямился, глаза в ужасе вытаращил и крикнул:
– Кто здесь?
– Кто здесь? – повторил полупроснувшийся кошевой.
Но Хмельницкий голову на грудь свесил, качнулся раз и другой, пробормотал: «Какой суд?..» – и уснул.
Пан Скшетуский, обессиленный своими ранами и бурным разговором, страшно побледнел и стал терять сознание. И показалось ему даже, что это, быть может, смерть его пришла, и стал он громко молиться.
Глава XIII
Назавтра, едва развиднелось, пешее и конное казацкое войско двинулось из Сечи. Хотя кровь не обагрила еще степей, война была начата. Полки шли за полками, и казалось, что это саранча, пригретая весенним солнцем, выплодилась из камышей Чертомлыка и летит на украинские нивы. В лесу за Базавлуком ждали уже готовые в поход ордынцы. Шесть тысяч наиотборнейших воинов, вооруженных много лучше обычных чамбульных головорезов, составляли подкрепления, присланные ханом запорожцам и Хмельницкому. Молодцы, завидя их, подкинули шапки в воздух. Загремели мушкеты и самопалы. Казацкие клики, смешавшись с татарскими призывами к Аллаху, грянули в свод небесный. Хмельницкий и Тугай-бей, оба под бунчуками, съехались и церемонно приветствовали друг друга.
Походные порядки были построены со свойственным татарам и казакам проворством, после чего войска двинулись дальше. Ордынцы шли по обоим казацким флангам, средину заполнил Хмельницкий с конницей, за которой следовала страшная запорожская пехота[60 - Вопреки распространенному сейчас мнению, Боплан утверждает, что запорожская пехота неизмеримо превосходила конницу. Согласно ему, 200 поляков с легкостью одерживали верх над 2000 запорожской кавалерии, но зато 100 пеших казаков могли, заняв оборону, долго сражаться против тысячи поляков. (Примеч. автора.)], далее – пушкари с пушками, дальше табор, возы, на них обозники, провиант, наконец, чабаны с конским запасом и скотом.
Прошед базавлукский лес, полки выплыли в степь. День стоял ясный. Ни одна тучка не омрачала небес. Легкий ветерок тянул с севера к морю, солнце сверкало на пиках и на цветах степных. Точно море безбрежное, распахнулось перед войском Дикое Поле, и вид этот наполнил ликованием казацкие сердца. Большой малиновый стяг с архангелом, приветствуя родимую степь, склонился несколько раз, и вослед ему склонились все бунчуки и полковые знамена. Единый крик вырвался изо всех грудей.
Полки развернулись свободнее. Довбиши и торбанисты выехали в чело войска, загрохотали турецкие барабаны, грянули торбаны и литавры, и песня, затянутая тысячей голосов, вторя им, сотрясла воздух и самое степь:
Гей ви степи, ви рiдни?,
Красним цвiтом писани?,
Як море широки?.
Торбанисты отпустили поводья и, откинувшись на седельные луки, со взорами, обращенными к небу, ударили по струнам торбанов; литаврщики, подняв руки над головами, грохнули в свои медные круги; довбиши заколотили в турецкие барабаны, и все звуки эти купно с монотонным напевом песни и пронзительно-нескладным свистом татарских дудок слились в некое безбрежное звучание, дикое и печальное, точно сама пустыня. Упоение овладело войском, головы раскачивались в лад песне, и вот уже стало казаться, что это сама степь поет и колышется вместе с людьми, лошадьми и знаменами.
Вспугнутые стаи птиц взметывались из трав и летели впереди войска, словно еще одно – небесное – воинство.
Временами и песня, и музыка смолкали, и слышался тогда лишь плеск знамен, топот, фырканье лошадей да скрип обозных телег, лебединым или журавлиным голосам подобный.
Вдруг он словно бы очнулся, поглядел на наместника и сказал:
– Сударь наместник, ты свободен.
– Благодарствуй, досточтимый гетман запорожский, хотя не скрою, что предпочел бы кого другого за свободу благодарить.
– Тогда не благодари. Ты спас мне жизнь, я добром отплатил – вот мы и квиты. Но хочу сказать тебе вот что: если не дашь рыцарского слова, что не расскажешь своим о наших приготовлениях, о численности войска нашего или о чем еще, что на Сечи видал, я тебя пока не отпущу.
– Значит, напрасно ты мне fructum[57 - Плод (лат.).] свободы дал вкусить, потому что такого слова я не дам, ибо, давши его, поступлю как те, кто к недругу перебегают.
– И жизнь моя, и благополучие всего Запорожского войска сейчас в том, чтобы великий гетман не пошел на нас со всеми силами, что он не преминет сделать, если ты ему о наших расскажешь, так что, если не дашь слова, я тебя не отпущу до тех пор, пока не почувствую себя достаточно уверенно. Знаю я, на что замахнулся, знаю, какая страшная сила противостоит мне: оба гетмана, грозный твой князь, один целого войска стоящий, да Заславские, да Конецпольские, да все эти королята, на вые казацкой стопу утвердившие! Воистину немало я потрудился, немало писем понаписал, прежде чем удалось мне подозрительность их усыпить, – так могу ли я теперь позволить, чтобы ты разбудил ее? Ежели и чернь, и городовые казаки, и все утесненные в вере да свободе выступят на моей стороне, как Запорожское войско и милостивый хан крымский, тогда полагаю я совладать с неприятелем, ибо и мои силы значительны будут, но всего более вверяюсь я Богу, который видел кривды и знает невиновность мою.
Хмельницкий опрокинул чарку и стал беспокойно расхаживать вокруг стола, пан же Скшетуский смерил его взглядом и, напирая на каждое слово, сказал:
– Не богохульствуй, гетман запорожский, на Бога и высочайшее покровительство Его рассчитывая, ибо воистину только гнев Божий и скорейшую кару навлечешь на себя. Тебе ли пристало взывать к Всевышнему, тебе ли, который собственных обид и приватных распрей ради столь ужасную бурю поднимаешь, раздуваешь пламя усобицы и с басурманами противу христиан объединяешься? Победишь ли ты или окажешься побежденным – море человеческой крови и слез прольешь, хуже саранчи землю опустошишь, родную кровь поганым в неволю отдашь. Речь Посполитую поколеблешь, монарха оскорбишь, алтари Господни поругаешь, а все потому, что Чаплинский хутор у тебя отнял, что, пьяным будучи, угрожал тебе! Так на что же ты руку не поднимешь? Чего корысти своей ради не принесешь в жертву? Богу себя вверяешь? А я, хоть и нахожусь в твоих руках, хоть ты меня живота и свободы лишить можешь, истинно говорю тебе: Сатану, не Господа в заступники призывай, ибо единственно ад споспешествовать тебе может!
Хмельницкий побагровел, схватился за рукоять сабли и глянул на пленника, как лев, который вот-вот зарычит и кинется на свою жертву. Однако же он сдержался. К счастью, гетман не был пока что пьян, но охватила его, казалось, безотчетная тревога, казалось, некие голоса взмолились в душе его: «Повороти с дороги!» – ибо вдруг, словно бы желая отвязаться от собственных мыслей или убедить самого себя, стал говорить он вот что:
– От другого не стерпел бы я таких речей, но и ты поостерегись, чтобы дерзость твоя моему терпению конец не положила. Адом меня пугаешь, о корысти моей и предательстве мне проповедуешь, а почем ты знаешь, что я только за собственные обиды воздать иду? Где бы я нашел соратников, где бы взял тьмы эти, которые уже перешли на мою сторону и еще перейдут, когда бы собственные только обиды взыскать вознамерился? Погляди, что на Украйне творится. Гей! Земля-кормилица, земля-матушка, землица родимая, а кто тут в завтрашнем дне уверен? Кто тут счастлив? Кто веры не лишен, свободы не потерял, кто тут не плачет и не стенает? Только Вишневецкие, да Потоцкие, да Заславские, да Конецпольские, да Калиновские, да горстка шляхты! Для них староства, чины, земля, люди, для них счастье и бесценная свобода, а прочий народ в слезах руки к небу заламывает, уповая на суд Божий, ибо и королевский не помогает! Сколько же – шляхты даже! – невыносимого их гнета не умея стерпеть, на Сечь сбегает, как и я сбежал? Я ведь войны с королем не ищу, не ищу и с Речью Посполитой! Она – мать, он – отец! Король – государь милостивый, но королята! С ними нам не жить, это их лихоимство, это их аренды, ставщины, поемщины, сухомельщины, очковые и роговые, это их тиранство и гнет, через евреев совершаемые, к небесам о возмездии вопиют. Какой такой благодарности дождалось войско Запорожское за свои великие услуги, в многочисленных войнах оказанные? Где казацкие привилегии? Король дал, королята отняли. Наливайко четвертован! Павлюк в медном быке сожжен! Еще не зажили раны, которые нам сабля Жолкевского и Конецпольского нанесла! Слезы не высохли по убиенным, обезглавленным, на кол посаженным! И вот – гляди – что на небесах светит! – Тут Хмельницкий показал в окошке пылающую комету. – Гнев Божий! Бич Божий!.. И коли суждено мне на земле бичом этим стать, да свершится воля Господня! Я сие бремя на плечи принимаю.
Сказав это, он простер руки горе и весь, казалось, воспылал, точно огромный факел возмездия, и затрясся весь, а потом рухнул на лавку, точно непомерной тяжестью предназначения своего придавленный.
Воцарилась тишина, нарушаемая только храпом Тугай-бея и кошевого, да еще в углу хаты жалобно пиликал сверчок.
Наместник сидел, опустив голову и, казалось, ища ответа на слова Хмельницкого, тяжкие, точно гранитные глыбы, но вот и он заговорил голосом тихим и печальным:
– О, пусть бы все это и было правдой, но кто же ты такой, гетман, чтобы судьею и палачом себя поставить? Какая тебя жестокость, какая гордыня подвигает? Зачем ты Богу суда и кары не оставляешь? Я зла не защищаю, обид не одобряю, притеснений законом не нарекаю, но вглядись же в себя, гетман! На утеснения от королят жалуешься, говоришь, что ни королю, ни закону повиноваться не желают, спесь их порицаешь, а разве сам ты без греха? Сам разве не поднял руку на Речь Посполитую, закон и престол? Тиранство панов и шляхты видишь, но того видеть не желаешь, что ежели бы не их груди, не их брони, не их могущество, не их замки, не их пушки и полки, тогда бы земля эта, млеком и медом текущая, под стократ тяжелейшим турецким или татарским ярмом стенала! Ибо кто бы защитил ее? Чьим это могуществом и покровительством дети ваши в янычарах не служат, а жены в паскудные гаремы не похищаются? Кто заселяет пустоши, закладывает города и села, воздвигает храмы Божьи?..
Тут голос Скшетуского стал делаться все громче и громче, а Хмельницкий, угрюмо уставившись в четверть водки, стиснутые кулаки на стол положил и молчал, словно бы сам с собою боролся.
– Так кто же они? – продолжал пан Скшетуский. – Из немцев сюда пришли или из Туретчины? Не кровь ли это от крови, не плоть ли от плоти вашей? Не ваша ли это шляхта, не ваши княжата? А если оно так, тогда горе тебе, гетман, ибо ты младших братьев на старших поднимаешь и братоубийцами их делаешь. Боже ты мой! Пусть и плохи они, пускай даже все – а это не так! – попирают законы, ругаются над привилегиями, так их же Богу в небесах судить, а на земле сеймам, но не тебе, гетман! Ибо можешь ли ты поручиться, что меж ваших сплошь праведники? Разве же вы никогда не согрешили, разве имеете право бросить камень в чужой грех? А уж коли ты меня пытал – где они, мол, привилегии казацкие? – так я отвечу тебе: не королята их разорвали, но запорожцы, но Лобода, Сашко, Наливайко и Павлюк, о котором лжешь, что он в медном быке был поджарен, ибо тебе хорошо известно, что так не было! Разорвали их бунты ваши, разорвали их смуты и набеги, на манер татарских учиняемые. Кто татар в рубежи Речи Посполитой пускал, чтобы затем на возвращающихся и награбленным отягощенных добычи ради нападать? Вы! Кто – господи! – народ христианский, своих, ясырями отдавал? Кто величайшие смутьянства затевал? Вы! От кого ни шляхтич, ни купец, ни кмет не упасутся? От вас! Кто братоубийственные войны раздувал, дотла жег деревни и города украинные, грабил храмы Божьи, бесчестил женщин? Вы, и еще раз вы! Чего же ты теперь хочешь? Чтобы вам привилегии на братоубийственную войну, разбой и грабительство были даны? Воистину вам более прощено, чем отнято! Ибо хотели мы membra putrida[58 - Гниющие члены (лат.).] лечить, не отсекать[59 - Исторические слова Жолкевского. (Примеч. автора.)], и не знаю – есть ли такая держава на свете, кроме Речи Посполитой, которая бы, таковую язву на собственной груди имея, столько снисхождения и терпеливости проявила! А какая благодарность за все это? Вот он спит, твой союзник, но Речи Посполитой враг заклятый; твой приятель, но супостат креста и христианства, не королишко украинный, но мурза крымский!.. С ним ты пойдешь жечь собственное гнездо, с ним пойдешь судить братьев! Но ведь он тебе впредь господином будет, ему стремя будешь держать!
Хмельницкий опорожнил еще чарку.
– Когда мы с Барабашем в свое время у милостивого короля были, – ответил он угрюмо, – и когда жалились на кривды и утеснения, государь сказал: «А разве не при вас самопалы, разве не при сабле вы?»
– А если б ты Царю Царей предстал, тот сказал бы: «Простишь ли врагам своим, яко я своим простил?»
– С Речью Посполитой я войны не хочу!
– А меч ей к горлу приставляешь!
– Казаков иду из цепей ваших вызволить.
– Чтобы связать их лыками татарскими!
– Веру защитить!
– С неверным на пару.
– Отыди же, ибо не ты голос моей совести! Прочь! Слышишь?
– Кровь пролитая тебя отягчит, слезы людские обвинят, смерть суждена тебе, суд ожидает.
– Не каркай! – закричал в бешенстве Хмельницкий и блеснул ножом у наместниковой груди.
– Бей! – сказал пан Скшетуский.
И снова на мгновение воцарилась тишина, снова было слыхать только храп спящих да жалобное поскрипывание сверчка.
Хмельницкий какое-то время держал нож у груди Скшетуского, однако, содрогнувшись вдруг, опомнившись, нож уронил и, схватив четверть, припал к ней. Выпив почти все, он тяжело сел на лавку.
– Не могу его прирезать! – забормотал он. – Не могу! Поздно уже… Неужто рассветает?.. И на попятный идти поздно… Что ты мне о суде и крови говоришь?
Он и до того уже немало выпил, поэтому теперь водка ударила ему в голову, вовсе спутав мысли.
– Какой такой суд, а? Хан мне подмогу обещал. Вон Тугай-бей спит! Завтра молодцы двинутся… С нами святой Михаил-архистратиг! А ежели… ежели… то… Я тебя у Тугай-бея выкупил – ты это помни и скажи… Вот! Болит что-то… болит! На попятный… поздно!.. Суд… Наливайко… Павлюк…
Вдруг он выпрямился, глаза в ужасе вытаращил и крикнул:
– Кто здесь?
– Кто здесь? – повторил полупроснувшийся кошевой.
Но Хмельницкий голову на грудь свесил, качнулся раз и другой, пробормотал: «Какой суд?..» – и уснул.
Пан Скшетуский, обессиленный своими ранами и бурным разговором, страшно побледнел и стал терять сознание. И показалось ему даже, что это, быть может, смерть его пришла, и стал он громко молиться.
Глава XIII
Назавтра, едва развиднелось, пешее и конное казацкое войско двинулось из Сечи. Хотя кровь не обагрила еще степей, война была начата. Полки шли за полками, и казалось, что это саранча, пригретая весенним солнцем, выплодилась из камышей Чертомлыка и летит на украинские нивы. В лесу за Базавлуком ждали уже готовые в поход ордынцы. Шесть тысяч наиотборнейших воинов, вооруженных много лучше обычных чамбульных головорезов, составляли подкрепления, присланные ханом запорожцам и Хмельницкому. Молодцы, завидя их, подкинули шапки в воздух. Загремели мушкеты и самопалы. Казацкие клики, смешавшись с татарскими призывами к Аллаху, грянули в свод небесный. Хмельницкий и Тугай-бей, оба под бунчуками, съехались и церемонно приветствовали друг друга.
Походные порядки были построены со свойственным татарам и казакам проворством, после чего войска двинулись дальше. Ордынцы шли по обоим казацким флангам, средину заполнил Хмельницкий с конницей, за которой следовала страшная запорожская пехота[60 - Вопреки распространенному сейчас мнению, Боплан утверждает, что запорожская пехота неизмеримо превосходила конницу. Согласно ему, 200 поляков с легкостью одерживали верх над 2000 запорожской кавалерии, но зато 100 пеших казаков могли, заняв оборону, долго сражаться против тысячи поляков. (Примеч. автора.)], далее – пушкари с пушками, дальше табор, возы, на них обозники, провиант, наконец, чабаны с конским запасом и скотом.
Прошед базавлукский лес, полки выплыли в степь. День стоял ясный. Ни одна тучка не омрачала небес. Легкий ветерок тянул с севера к морю, солнце сверкало на пиках и на цветах степных. Точно море безбрежное, распахнулось перед войском Дикое Поле, и вид этот наполнил ликованием казацкие сердца. Большой малиновый стяг с архангелом, приветствуя родимую степь, склонился несколько раз, и вослед ему склонились все бунчуки и полковые знамена. Единый крик вырвался изо всех грудей.
Полки развернулись свободнее. Довбиши и торбанисты выехали в чело войска, загрохотали турецкие барабаны, грянули торбаны и литавры, и песня, затянутая тысячей голосов, вторя им, сотрясла воздух и самое степь:
Гей ви степи, ви рiдни?,
Красним цвiтом писани?,
Як море широки?.
Торбанисты отпустили поводья и, откинувшись на седельные луки, со взорами, обращенными к небу, ударили по струнам торбанов; литаврщики, подняв руки над головами, грохнули в свои медные круги; довбиши заколотили в турецкие барабаны, и все звуки эти купно с монотонным напевом песни и пронзительно-нескладным свистом татарских дудок слились в некое безбрежное звучание, дикое и печальное, точно сама пустыня. Упоение овладело войском, головы раскачивались в лад песне, и вот уже стало казаться, что это сама степь поет и колышется вместе с людьми, лошадьми и знаменами.
Вспугнутые стаи птиц взметывались из трав и летели впереди войска, словно еще одно – небесное – воинство.
Временами и песня, и музыка смолкали, и слышался тогда лишь плеск знамен, топот, фырканье лошадей да скрип обозных телег, лебединым или журавлиным голосам подобный.