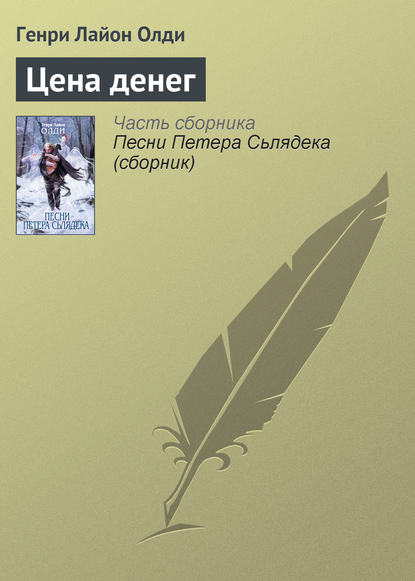По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Цена денег
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Цена денег
Генри Лайон Олди
Хёнингский циклПесни Петера Сьлядека #5
«У Петера болели пальцы, а в глотке поселился колючий еж.
– Играй!
Он играл.
– Пой!
Он пел…»
Генри Лайон Олди
Цена денег
«…IV-м указом совета Отцов-Основателей каждому младенцу, рожденному в пределах вольного города Гульденберга, будь он чадом бургомистра или незаконнорожденным отпрыском бродяжки, от щедрот казны отписать незамедлительно в беспошлинное владение пансион, достаточный для беспрепятственного достижения полного совершеннолетия и еще на три года сверх того; а ежели магистрат преступно промедлит в сем деле, так бить виновника плетьми у позорного столба в назидание…»
Из «Хроник Якобса ван Фрее»
Монетка
на дне.
Мне?
Ниру Бобовай
У Петера болели пальцы, а в глотке поселился колючий еж.
– Играй!
Он играл.
– Пой!
Он пел.
А Юрген пил и плясал вторую неделю без просыпа. Маленький, сердитый, с птичьим хохолком на макушке, бывший стряпчий Хенингской ратуши, а теперь никто, и звать никак, Юрген Маахлиб вколачивал каблуки в половицы, лил «Глухого егеря» в ликер бенедиктинцев, полезный от разлития флегмы, красную малагу – в золотую данцигскую водку, смешивал, взбалтывал, булькал, хлюпал, опрокидывал адскую смесь в пиво, темное, густое, с шапкой седой пены, – и хлестал кружку за кружкой, наливаясь граненым, хрустальным безумием. Там, где любой другой свалился бы под лавку, Юрген на эту лавку вскакивал и бил шапкой оземь; там, где портовый грузчик, дикий во хмелю, охнул бы и упал щекой в миску кислой капусты, Юрген кормил этой капустой всю харчевню задарма, и посмей кто отказаться! – пришлось бы пить страшную откупную чару, после которой чертов пьяница поминался трехъярусной бранью, и то лишь сутки спустя.
На лице маленького человека застыла, словно примерзла, брюзгливая гримаса: с ней он плясал, с ней пил, с ней проваливался в краткий, тревожный сон, чтобы опять вынырнуть к буйству. «За что?» – спрашивало лицо или кто-то трезвый, больной, упрятанный за окаменелыми чертами, как честный обыватель, схваченный по облыжной клевете, за решеткой «Каземата Весельчаков».
Но ответ, сатана его дери, гулял совсем в другой харчевне.
А в «Звезду волхвов» ни ногой.
Сейчас Петер, привалясь к стене, торопливо глотал одно за другим сырые яйца, утоляя голод и пытаясь хоть как-то спасти измученное горло. Подогретый «Вестбальдер» с корицей уже не помогал. Конечно, можно было послать Юргена к монахам, на покаяние, встать и выйти из харчевни на свободу, где дозволено молчать, пока не онемеешь, а пальцы мало-помалу забывают пытку долгой лютней. Увы, при ближайшем рассмотрении свобода оказывалась подлой обманкой, дармовым сыром в мышеловке. На дворе, вбитым в мерзлую землю колом, стоял ноябрь, умелый палач, только и дожидаясь, пока Сьлядек попадет к нему в стылые объятия. «Оставался бы в Венеции! – насмешливым бельканто зудел внутренний подлец-голос. – Тепло, сытно… гондолы плавают. Маэстро д'Аньоло, добрая душа, деньги сулил, работу, а ты, дурень!..» Дурень, соглашался Петер. Как есть дурень.
Даже яйцом подавился, от согласия.
Кашлял, кашлял, всего Юргена забрызгал. А тот и не заметил.
– «Кочевряку» давай!
Эта дьявольская «Кочевряка», плясовая школяров университета в Керпенесе и вообще сочинение Их Неподобия Люцифера, заказываемая мучителем сто раз на дню, достала больше всего. Аж в животе от нее, развеселой, яйца в пляс пустились. Лютня булькнула, горло всхлипнуло:
– Кочевряка, кочевряй!
Сучьим раком кочевряй!
Хошь – в ад,
Хошь – в рай,
Небу зраком козыряй!
Под жаргон ученого ворья и драчунов-бакалавров, годных лишь на виселицу, под разбойничий свист тесаков, любимого оружия буршей, не считая латыни, под беззаконное веселье струн Юрген пошел долбить пол вприсядку. Еще в начале осени, когда обочина Хенингской Окружной сверкнула первым дутым золотишком, а небо лгало доверчивым людям, обещая вечную лазурь вместо разверстых хлябей, этот запойный бражник был бюргером самых честных правил. Все законы доподлинно исполнял. Даже нудный «Устав об одежде»: кто имеет восемьдесят марок серебра состояния, тому носить камзол из доброго сукна, имеющему вдвое больше – поверх камзола еще и кафтан, а кто вчетверо скопил, тому – плащ, но без меховой подкладки… Служба, дом. Пиво по воскресеньям, супружеский долг по пятницам. Женушка, милая толстушка, как раз была на пятом месяце, когда старуха-цыганка убила ее мужа. Наповал; навылет. Сказав Юргену на рынке:
– Дай монетку, сокровище.
Юрген дал.
– Дай волосок, сокровище. Правду скажу. За вторую монетку.
Юрген не дал.
– Жмот ты, сокровище. Скаред копченый. Я тебе и так правду скажу. Даром. Уйдешь ты на Рождество дорогой дальней, для других истоптанной, для тебя нехоженой. Отпоют тебя вслед, плюнут и забудут. И памяти от тебя на этой земле не останется. Помни мое слово, сокровище. Кому Рождество, а кому и свиной хрящик. На, держи. Чтоб было за какой грош гульнуть перед уходом.
И первую монетку под ноги швырнула, стерва.
В грязь.
Юрген вслед кукиш показал, только не успел обидеть. Сгинула цветастая пакость. А он остался стоять с кукишем, как с писаной торбой. Сокровище, в смысле. Из трех пальцев. На большом ноготь плоский, обкусанный. Глянул стряпчий, маленький человек с хохолком, на свой ноготь, и покатилась душа кубарем.
– Эй!.. стой, дура!
Куда там стой! – была дура, да сплыла.
– Кочевряка, чур, я кочет! —
Чёт подначит, чирей вскочит,
Чушка чешет,
Черт хохочет,
Во хмелю школяр стрекочет!
Весь сентябрь Юрген жил прежней жизнью. Жене ничего не сказал, в ратуше отмолчался. К отцу в гости зашел, помянуть матушку, чистую душу, которую шестой год как зарыли на кладбище Всех Святых, в народе прозванном Отпетым погостом, – спросил отец, чего сын скучен, а сын плечами пожал. Так и пожимал до октября. Идет-идет, встанет и пожмет. А по скулам желваки катаются. И хохолок трепещет; от ветра, должно быть. Шляпы-то из-за рассеянности забывать стал: дома, в ратуше, в лавке зеленщика.
С октября по гадалкам кинулся. Ну, тут дело не сложилось: гадалок тьма, все брехливые, хуже шавок подзаборных. Поди их пойми! Кто скажет: «Соврала цыганка! Живи-радуйся!» – а ты думай: в картах увидела? от фонаря брякнула? Кто скажет: «Берегись, правду вещунья напророчила!» – а ты чеши затылок: остерегает? запугивает? Кто прибавит: «Сглаз на тебе, дядюшка! Снимать будем?» – а ты снова-здорово в догадках, словно плохой танцор в трех соснах, путаешься: ради лишнего грошика врет? впрямь помочь хочет?! С середины октября решился: стал сглаз снимать, порчу отводить. Молебны заказал – три штуки. Дорогущие, одно разоренье: святые отцы вцепились в кошелек, не отодрать. Деньжищ потратил гору! Если б по году за каждую монету, имел бы Мафусаилов век. А душа не на месте. От гадалок воротит, на святых отцов еретиком смотришь, кошель подальше прячешь. Жить хочется, только жизнь не в жизнь.
– Кочевряка, кочевряй!
В полночь злаком вечеряй!
В четь святых,
В сычий грай, —
Генри Лайон Олди
Хёнингский циклПесни Петера Сьлядека #5
«У Петера болели пальцы, а в глотке поселился колючий еж.
– Играй!
Он играл.
– Пой!
Он пел…»
Генри Лайон Олди
Цена денег
«…IV-м указом совета Отцов-Основателей каждому младенцу, рожденному в пределах вольного города Гульденберга, будь он чадом бургомистра или незаконнорожденным отпрыском бродяжки, от щедрот казны отписать незамедлительно в беспошлинное владение пансион, достаточный для беспрепятственного достижения полного совершеннолетия и еще на три года сверх того; а ежели магистрат преступно промедлит в сем деле, так бить виновника плетьми у позорного столба в назидание…»
Из «Хроник Якобса ван Фрее»
Монетка
на дне.
Мне?
Ниру Бобовай
У Петера болели пальцы, а в глотке поселился колючий еж.
– Играй!
Он играл.
– Пой!
Он пел.
А Юрген пил и плясал вторую неделю без просыпа. Маленький, сердитый, с птичьим хохолком на макушке, бывший стряпчий Хенингской ратуши, а теперь никто, и звать никак, Юрген Маахлиб вколачивал каблуки в половицы, лил «Глухого егеря» в ликер бенедиктинцев, полезный от разлития флегмы, красную малагу – в золотую данцигскую водку, смешивал, взбалтывал, булькал, хлюпал, опрокидывал адскую смесь в пиво, темное, густое, с шапкой седой пены, – и хлестал кружку за кружкой, наливаясь граненым, хрустальным безумием. Там, где любой другой свалился бы под лавку, Юрген на эту лавку вскакивал и бил шапкой оземь; там, где портовый грузчик, дикий во хмелю, охнул бы и упал щекой в миску кислой капусты, Юрген кормил этой капустой всю харчевню задарма, и посмей кто отказаться! – пришлось бы пить страшную откупную чару, после которой чертов пьяница поминался трехъярусной бранью, и то лишь сутки спустя.
На лице маленького человека застыла, словно примерзла, брюзгливая гримаса: с ней он плясал, с ней пил, с ней проваливался в краткий, тревожный сон, чтобы опять вынырнуть к буйству. «За что?» – спрашивало лицо или кто-то трезвый, больной, упрятанный за окаменелыми чертами, как честный обыватель, схваченный по облыжной клевете, за решеткой «Каземата Весельчаков».
Но ответ, сатана его дери, гулял совсем в другой харчевне.
А в «Звезду волхвов» ни ногой.
Сейчас Петер, привалясь к стене, торопливо глотал одно за другим сырые яйца, утоляя голод и пытаясь хоть как-то спасти измученное горло. Подогретый «Вестбальдер» с корицей уже не помогал. Конечно, можно было послать Юргена к монахам, на покаяние, встать и выйти из харчевни на свободу, где дозволено молчать, пока не онемеешь, а пальцы мало-помалу забывают пытку долгой лютней. Увы, при ближайшем рассмотрении свобода оказывалась подлой обманкой, дармовым сыром в мышеловке. На дворе, вбитым в мерзлую землю колом, стоял ноябрь, умелый палач, только и дожидаясь, пока Сьлядек попадет к нему в стылые объятия. «Оставался бы в Венеции! – насмешливым бельканто зудел внутренний подлец-голос. – Тепло, сытно… гондолы плавают. Маэстро д'Аньоло, добрая душа, деньги сулил, работу, а ты, дурень!..» Дурень, соглашался Петер. Как есть дурень.
Даже яйцом подавился, от согласия.
Кашлял, кашлял, всего Юргена забрызгал. А тот и не заметил.
– «Кочевряку» давай!
Эта дьявольская «Кочевряка», плясовая школяров университета в Керпенесе и вообще сочинение Их Неподобия Люцифера, заказываемая мучителем сто раз на дню, достала больше всего. Аж в животе от нее, развеселой, яйца в пляс пустились. Лютня булькнула, горло всхлипнуло:
– Кочевряка, кочевряй!
Сучьим раком кочевряй!
Хошь – в ад,
Хошь – в рай,
Небу зраком козыряй!
Под жаргон ученого ворья и драчунов-бакалавров, годных лишь на виселицу, под разбойничий свист тесаков, любимого оружия буршей, не считая латыни, под беззаконное веселье струн Юрген пошел долбить пол вприсядку. Еще в начале осени, когда обочина Хенингской Окружной сверкнула первым дутым золотишком, а небо лгало доверчивым людям, обещая вечную лазурь вместо разверстых хлябей, этот запойный бражник был бюргером самых честных правил. Все законы доподлинно исполнял. Даже нудный «Устав об одежде»: кто имеет восемьдесят марок серебра состояния, тому носить камзол из доброго сукна, имеющему вдвое больше – поверх камзола еще и кафтан, а кто вчетверо скопил, тому – плащ, но без меховой подкладки… Служба, дом. Пиво по воскресеньям, супружеский долг по пятницам. Женушка, милая толстушка, как раз была на пятом месяце, когда старуха-цыганка убила ее мужа. Наповал; навылет. Сказав Юргену на рынке:
– Дай монетку, сокровище.
Юрген дал.
– Дай волосок, сокровище. Правду скажу. За вторую монетку.
Юрген не дал.
– Жмот ты, сокровище. Скаред копченый. Я тебе и так правду скажу. Даром. Уйдешь ты на Рождество дорогой дальней, для других истоптанной, для тебя нехоженой. Отпоют тебя вслед, плюнут и забудут. И памяти от тебя на этой земле не останется. Помни мое слово, сокровище. Кому Рождество, а кому и свиной хрящик. На, держи. Чтоб было за какой грош гульнуть перед уходом.
И первую монетку под ноги швырнула, стерва.
В грязь.
Юрген вслед кукиш показал, только не успел обидеть. Сгинула цветастая пакость. А он остался стоять с кукишем, как с писаной торбой. Сокровище, в смысле. Из трех пальцев. На большом ноготь плоский, обкусанный. Глянул стряпчий, маленький человек с хохолком, на свой ноготь, и покатилась душа кубарем.
– Эй!.. стой, дура!
Куда там стой! – была дура, да сплыла.
– Кочевряка, чур, я кочет! —
Чёт подначит, чирей вскочит,
Чушка чешет,
Черт хохочет,
Во хмелю школяр стрекочет!
Весь сентябрь Юрген жил прежней жизнью. Жене ничего не сказал, в ратуше отмолчался. К отцу в гости зашел, помянуть матушку, чистую душу, которую шестой год как зарыли на кладбище Всех Святых, в народе прозванном Отпетым погостом, – спросил отец, чего сын скучен, а сын плечами пожал. Так и пожимал до октября. Идет-идет, встанет и пожмет. А по скулам желваки катаются. И хохолок трепещет; от ветра, должно быть. Шляпы-то из-за рассеянности забывать стал: дома, в ратуше, в лавке зеленщика.
С октября по гадалкам кинулся. Ну, тут дело не сложилось: гадалок тьма, все брехливые, хуже шавок подзаборных. Поди их пойми! Кто скажет: «Соврала цыганка! Живи-радуйся!» – а ты думай: в картах увидела? от фонаря брякнула? Кто скажет: «Берегись, правду вещунья напророчила!» – а ты чеши затылок: остерегает? запугивает? Кто прибавит: «Сглаз на тебе, дядюшка! Снимать будем?» – а ты снова-здорово в догадках, словно плохой танцор в трех соснах, путаешься: ради лишнего грошика врет? впрямь помочь хочет?! С середины октября решился: стал сглаз снимать, порчу отводить. Молебны заказал – три штуки. Дорогущие, одно разоренье: святые отцы вцепились в кошелек, не отодрать. Деньжищ потратил гору! Если б по году за каждую монету, имел бы Мафусаилов век. А душа не на месте. От гадалок воротит, на святых отцов еретиком смотришь, кошель подальше прячешь. Жить хочется, только жизнь не в жизнь.
– Кочевряка, кочевряй!
В полночь злаком вечеряй!
В четь святых,
В сычий грай, —