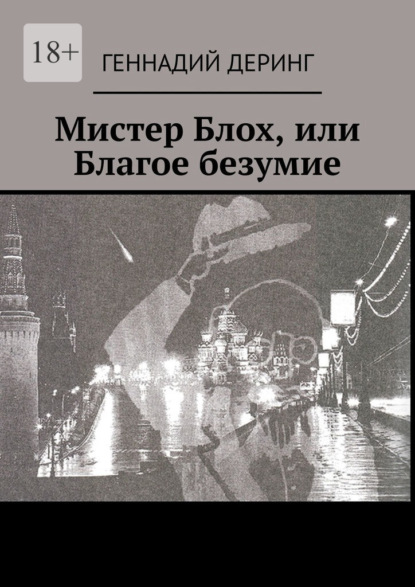По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Мистер Блох, или Благое безумие
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Просим принять меры прокурорского реагирования».
Бельский понимал, что повод для этой галиматьи был, город гудел от слухов об НЛО и о каком-то якобы мистере Блохе. Но можно ли было всерьёз лицу, занимающему крупный государственный пост, поддаваться бессмысленной кроличьей панике? На этот счёт вчера президент высказался однозначно. Как? А никак. Что отвечать Думе? Как реагировать на эту заведомую мутотень?
Чтобы соответствовать уровню депутатских запросов, Генпрокурор всегда разогревал себя «Гипер-тоником». Что он был вынужден предпринять и сегодня.
…Рюмки с «Гипер-тоником», которые и сами были не рады происшествию, напрасно пытались залить благородное прокурорское негодование… Григорий Лукьянович был неумолим и требовал для опустошённого им фужера примерного наказания (лишение свободы на срок до двух лет или исправительные работы в Бухенвальде на тот же срок).
В этот напряжённый правоприменительный момент дверь в кабинет отлетела в сторону, треснув ручкой о стену. (Стены прокурорского гнезда были отделаны фирмой «Домостил», $100 за квадратный метр.) На пороге явился следователь по особо важным делам Цапаев – всклокоченный, в мыле, с пеной у рта, с дикими, жёлтыми, как у камышового кота, глазами. При этом Цапаев что-то нечленораздельно мямлил, явно находясь в трансе. Григорий Лукьянович решил, что следователь-важняк не спал ночь, проведя её в служебном кабинете, составляя по заданию генпрокурора справку о преступных действиях младореформаторов Хрюши, Ржавого и Хока, стараниями которых за последние семь лет население Рутинии сократилось на 30 процентов. Определяя реформаторам наказание, Цапаев, вероятно, сломал собственную голову, что нередко случалось с сотрудниками прокуратуры, на каковые случаи была даже заведена штатная должность прокурор-психиатра. Генпрокурор, через важняка Цапаева держал процесс убыли населения под личным контролем. На всякий случай. Однако Цапаев был взволнован чем-то другим. Он протягивал генпрокурору нечто на трясущейся ладони.
Бельский объявил перерыв в процессе, отставив в сторону свидетельницу – серебряную ложку для размешивания коктейлей – и сурово обратился к Цапаеву:
– Почему не по форме?
– Сам явился! Совесть заела! – не слыша вопроса, трудно выдохнул следваж.
Бельский направил сверлящий взгляд на ладонь Цапаева. На ладони стояла кукла. Но кукла живая, так как она непринужденно кланялась, улыбалась и приподнимала приветственным жестом двумя крошечными пальчиками шёлковый блестящий цилиндр. «Эмбрион!» – сверкнуло в мозгу генпрокурора.
Но поразило даже не это. Обычно взгляд генпрокурора проходил сквозь любую преграду, как гвоздь сквозь трухлявую доску. На этот раз взор Григория Лукьяновича отразился от крошечной фигурки на ладони Цапаева, от цилиндра, как луч солнца отражается от зеркала, и, отразившись, обратным ходом был отброшен в сторону самого генпрокурора. Бельского ослепило и прохватил озноб. Он метнул непонимающий взор на Цапаева, решив, что что-то произошло с его собственным рентгеном. Но нет! Его рентген действовал. Напряжение генпрокурорского взгляда было столь сильно, что раздался треск электрического разряда, запахло горелым, а на мундире Цапаева закурилось круглое чёрное пятно.
К Цапаеву вернулся дар речи:
– С повинной притопал, гад! И сразу ко мне…
Существо, в свою очередь, лирическим баритоном, на мотив куплетов из оперетты «Люксембург», подтвердило:
Я к вам по Неглинной
Явился с повинной!
Цапаев бил себя ладонью по лацкану мундира государственного советника 3-го класса. Частица генпрокурорского испепеляющего взгляда испортила его новый мундир.
Объявив рюмкам и позванивавшему от страха фужеру, что слушание дела откладывается, генпрокурор, взял со стола лупу, подаренную ему в детстве райкомом партии за разоблачение чиновной преступницы (с этой лупой Бельский никогда не расставался) и рассмотрел странного заявителя, усиливая линзой свой знаменитый взгляд.
– Как насчет повышения в должности? – спросил хват Цапаев.
– Пошел к черту! Не мешай работать…
ВСТАНЬ И СОЗНАЙСЯ!
– Предаюсь в руки Закона! Предаюсь в ваши руки, дорогой Григорий Лукьянович.
Pereat mundus et fiat justicia! Пусть погибнет мир, но да свершится правосудие! – слышал из приёмной следваж Цапаев, приоткрыв на полволоса дверь в кабинет генпрокурора и подставив к косяку спецстакан для подслушивания. Вслед за этими словами, произнесенными как бы с трибуны, Цапаев уловил некий звук, похожий на сдавленное хихиканье, и напряг до предела правое рабочее ухо.
По обожжённому «Петрами Первыми» столу, где обычно заседала коллегия и нервные прокуроры гасили бычки обо что попало, между поленницами папок с громкими делами, по которым можно было изучать новейшую историю Рутинии, по этому полю битвы с преступностью расхаживала заводная кукла в цилиндре и вела несусветные речи, заодно копаясь в папках уголовных дел, пересчитывая пачки изъятой валюты и двигая с места на место мраморную пепельницу.
Генпрокурор Бельский поначалу решил, что неожиданный заявитель сознаётся в краже спичечной головки, возможно – пуговицы от нижнего белья, или, в крайнем случае, в пролёте на майском жуке без билета. Тем не менее, верный своим принципам, Григорий Лукьянович выполнил все положенные в данном случае требования протокола явки с повинной и задал первые вопросы согласно статьи 142:
– Откуда взялся… такой? Регистрация, виза!
– Блох, Христиан Октавианович, – охотно сообщила кукла. – А взялся и зарегистрирован я, друг вы наш Григорий Лукьянович… Откуда взялся, там и зарегистрирован. Предаю себя в руки…
– А я не беру! – возразил генпрокурор. Лицо Бельского, его бульдожий выпуклый лоб, его мерзлые губы ничего не выражали. И только ледяная усмешка на миг потеплела.
– Это что у нас такое пожелтело-порыжело? – перебирал Блох на столе тома документов. —Ага, это вот что у нас!..
Блох перекинул тросточку из правой руки в левую, а правой выхватил из стопы документов – дело о хищении полумиллиона долларов из предвыборного фонда Дубовика. Злоумышленники, нагрузив коробку из-под ксероксной бумаги валютой, волокли короб среди бела дня к выходу из выборного штаба. Дело было замытарено, поскольку лиходеями оказались сами труженики штаба, а за ними в скромном отдалении маячили ближайшие из окружения к Дубовику прыткие молодые люди – так называемые младореформаторы – Хрюша, Ржавый и Хок. Бельский, общаясь с ними, пронизав молодчиков своим взглядом, сразу определил, что они далеко пойдут и со временем непременно присядут. Поймали друзей, вернее, их клерков, охранявшие Дубовика честные служаки старого поколения, генералы внутренней службы Корж и Барсук, которые полагали, что раз им доверена охрана Тела первого лица Рутинии, то и все куши, особенно наличными, направляемые региональным выборным штабам для всенародного избрания Тела, должны проходить через их, Коржа и Барсука, сравнительно честные руки. Поэтому они тщательно следили за шушерой, шнырявшей в поисках поживы в коридорах главного предвыборного штаба и в нужный момент накрыли молодчиков. Но Корж и Барсук действовали самочинно, на свой салтык. И – жестоко сплошали. Дубовик занял позицию молодых да ранних, в то время как Корж и Барсук были кадрами вчерашнего дня. В последние годы империи тот и другой имели личный опыт общения с УБХСС и КРУ по разным мелким делишкам, что поселило в них недопустимую робость и уважение к УК. В новой Рутинии они через силу тянулись к кускам наличных крупнее миллиона: у них отсутствовала необходимая государственная смелость. Дубовику надоело бодрить старичков. Разобравшись в случившемся, он сбросил с лопаты Коржа и Барсука, а заодно и генпрокурора – предшественника Бельского, который поспешил возбудиться вместо того, чтобы скромно спустить дело на тормозах.
– Это я тащил коробку с твердышами из Дома правительства, – продолжал виниться Блох, – это меня пытались задержать Корж и Барсук, Да где им упрыгать за мной! Эти милые люди так накушались «Гипер-тоника», что не знали, которого из нас троих ловить. Корж бросился за мной – правым, Барсук, паля на поражение, – за мной левым, им было невдомёк, что по закону расстраивания оригинал всегда находится в центре. Шейте дело, шейте, Григорий Лукьянович!
В этом месте Цапаев отскочил со своим орудием для подслушивания от двери, так как в кабинете Бельского кто-то, до боли знакомым голосом, столь весело и оглушительно по-жеребячьи загоготал, что Цапаев вспомнил о том, что должен крупную сумму дознавателю капитану Бобу Широченскому, проигранную в субботу на бегах…
– Насколько нам известно, коробку волокли два бугая из предвыборного штаба… – надрывался в пароксизме смеха генпрокурор. – А какова ваша-то роль была, дорогой мой… м-м-м…
– Карла, кукла, лилипут… Смелее, Григорий Лукьянович, не стесняйтесь, мы люди свои! Я руководил операцией, сидя на пачках валюты и погоняя этих ослов. И всё бы сложилось к общему удовольствию, если бы из-за угла не явились энтузиасты бухгалтерского оформления каждой мелочи. Ослы попались на месте преступления, а мне пришлось ретироваться… Кстати, и насчёт младореформаторов, крышевавших ослов, нам всё известно, готов дать признательные показания. Зря вы коротнули это дело. Шейте, Григорий Лукьянович, штопайте, пока колюсь!
Бельский лежал на своём рабочем столе и выл. Он колотил головой по крышке стола, хватался за бока, грыз в пароксизме смеха даренный ему коллективом прокуратуры «Паркер», оправленный золотом. Между приступами хохота вскидывал голову, стриженную «под ёжик» (ёжик подчёркивал мужественность и энергию, делал узковатый и низковатый лоб Бельского более широким и высоким), и грозно допрашивал:
– Признайся, негодяй, это ты платил наличкой региональным комитетам?!
– Разумеется, я. Я намекнул Хрюше, Хрюша – Ржавому, Ржавый – Хоку. А Хок взял дело в свои руки. Неслабые люди. Снесли все законы махом и прекрасно обходятся понятиями.
– Так и запишем: заявитель рухнул с дуба, вынес из выборного штаба президента полмиллиона долларов и скрылся с места преступления… – вытирая слезы протоколом, подытожил Бельский.
Отсмеявшись, Григорий Лукьянович почувствовал какое-то неслыханное облегчение. Он совершенно забыл о сложном процессе над Гипер-тоником и нелепом запросе Климакса. И даже о том, что где-то существует президент Дубовик. Кто-то нежно щекоча ему подмышки, приклеивал к его лопаткам легкие крылья и, измеряя детскими четвертями его лоб-окатыш, насаживал ему на голову тёплый светящийся обруч святого. Прокурор ощутил, что он парит. И в этом освобождённом от земных тягот состоянии он вспомнил себя мальчиком, школьником, учеником шестого класса, услышал ровный шум детской толпы и строгий голос их классного руководителя, биолога, рыжего, веснушчатого и румяного по прозвищу Ярило: «Кто это сделал? Встань и сознайся! Просто встань и сознайся!!».
И он, Гриша Бельский, не может отказать любимому педагогу, не может обмануть его страстных ожиданий, и хоть вовсе не он плюнул в трубку нажёванную бумагу и что если его обыскать, то и трубки не найдут, – несмотря на полное отсутствие вины, Гриша вставал и с радостью идя на известные последующие мучения, бодро неся свой крест на Голгофу, выпаливал: «Я это сделал, я!».
Что замечательно: Бельский ни на секунду не терял контроля над происходившим. Понимая, что перед ним гипнотизёр высочайшего класса с чрезвычайной силой внушения, прохиндей и аферист, новый Мессинг, отчётливо сознавая это, Бельский, несмотря на все попытки, не мог выпутаться из раскинутых куклой в цилиндре сетей.
В мозгу стучало только одно, когда-то застрявшее и вдруг всплывшее: «Встань и сознайся! Просто встань и сознайся…».
ГОРЧИЦА В АССОРТИМЕНТЕ
…Отпустив министра Сизо и окончательно стряхнув сонные видения, президент Дубовик решительно сел в своей инкрустированной постели-корзине, нарушив строгий запрет академика Пичугина, который рекомендовал Рурику Хероновичу пробуждаться после обеда не ранее семи часов вечера, чтобы пополдничать с младореформаторами, послушать рассуждения про их хвалёный рынок, который они сами именовали не иначе, как «вшивый», и про его невидимую ни для кого «руку», обсудить курьёзы и залёты в стране и в мире и через пару-другую часов заснуть с новой энергией и чистой душой. Когда Дубовик о чём-нибудь серьёзном задумывался, например, о том, что население Рутинии убывает на глазах, как вода из худой корчаги, министр имуществ Натан Ржавый заливался беззаботным смехом и кричал: «Не думайте об этом, Рурик Херонович, бабы ещё родят. Куда они денутся? Главное, не отдать демократию коммунякам! А если что, на меня валите. Во всём, мол, виноват Ржавый! Ха-ха-ха!». У Дубовика отлегало от сердца, он добавлял «Бурячихи» и засыпал, уверенный, что пока он спит, бабы Рутинии, торопясь друг перед другом, рожают ему население. Иногда на паужник приглашались дочери с зятьями, тогда объявлялось очередное заседание Семейного Совета Безопасности (Семсовбез).
Однако на этот раз, после объяснений с международным экспертом по вопросам жизни и смерти и сообщений министра Сизо о думских настроениях, сон упорно не шел, и Дубовик, осатанев от игры с клубком, заменявшим ему котенка Трофима, решительно возник из корзины.
– Спишь, знахарь? – завистливо спросил Дубовик у дежурившего возле корзины академика Пичугина. – Чем ты меня пичкаешь, медицина? Какая-то лапша в голове, аж из ушей прёт. И всё блохи, блохи… Просто ужас!
– Если не все хорошо, значит, еще не конец, – ляпнул академик-сиделка, который силился не заснуть, но все-таки сладко поклевывал носом.
– Поговори у меня! – обрезал Рурик, мрачно зевая. – Жерёбый в стойле? Позвать!
Мягко явился премьер-министр Старобабский. Было слышно, что Старобабский волнуется, так хлюпали его жирные колени. Вчера Дубовик, передавали Старобабскому, на вечернем заседании Семсовбеза неоднократно и, что самое плохое, некстати хвалил премьера и даже вслух объявил его своим наследником на посту президента. Это был дурной знак. Кандидатов на высшие должности, которых Дубовик назначал, он неизменно через малое время, испытав (свои тесты он именовал ЕГЭ), с треском со всех постов увольнял. В особенности доставалось его «преемникам», которых он объявлял периодически и так же периодически, опробовав, смещал. Старобабский и все вокруг знали, что после вчерашнего паужника он приговорен. Напрасно премьер, озираясь по сторонам, гадал, где гнездует измена? Кто против него, Старобабского, злоумышляет? За полусферической спиной, там, где у Старобабского, согласно опросам общественного мнения, по утверждению объективного Левады, всегда было не менее 47 процентов добротного, как пятидневной носки портянка, электората, теперь ощущалась пугающая пустота, зыбун, в который проваливался Старобабский, и слышался какой-то неясный ропот и загадочный смех. Даже при посещении персонального туалета в своей резиденции, с мягкой, успокоительной подсветкой унитаза, он чувствовал, что кто-то осуждающе шептал за спиной, перечисляя номера его лучших постановлений вперемешку с номерами его, Старобабского, зарубежных банковских счетов. Но стоило оглянуться, как со всех сторон всё по-прежнему улыбалось Старобабскому и возносило разнузданные хвалы его живому весу, за который девять месяцев назад Дубовик и назначил его премьером, объявив народу, что Старобабский – это политический тяжеловес, ибо он на полцентнера тяжелее предыдущего премьера Пончука-Божедара.
– Указанное преимущество, считаю, отложенное равномерно на грудинке, рульке и окороках, понимаешь, делает нового главу правительства исключительно перспективным и позволяет надеяться, что премьер выцыганит давно посуленный Европой очередной транш, а также, и это, считаю, главное, – наш выдвиженец наверняка разродится новыми демократическими реформами. И пусть… (пауза 4 сек.) парламент (11 сек.) решает!
Так аттестовал Дубовик Старобабского в Думе при вступлении того в должность.