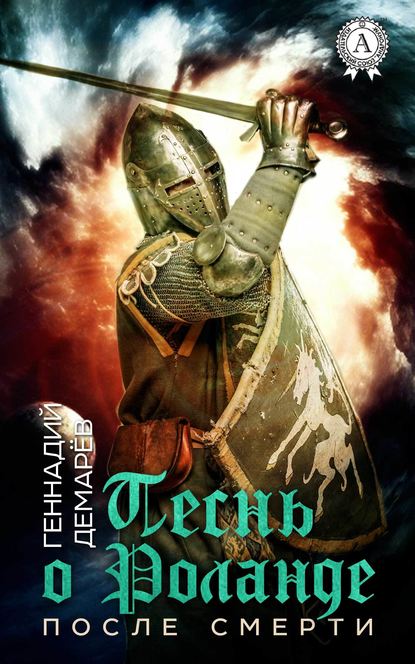По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Песнь о Роланде. (После смерти)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Песнь о Роланде. (После смерти)
Геннадий Демарев
Многим из вас известна версия жизнеописания доблестного рыцаря Роланда, изложенная в балладе о короле Карле Великом. Борясь с сарацинами, герой попадает в окружение мавров и гибнет с мечом в руке. Оказывается, ему заранее было известно о предстоящей гибели, которую он, по его мнению, вполне заслужил. Заслужил, поскольку именно смерть на поле боя могла стать своеобразным искуплением греха его родителей. К его сожалению, смерть не принесла ему облегчения, поскольку даже в потустороннем мире его не приняли ни в ад, ни в чистилище. Роланд обречён блуждать среди живых людей в поиске некой женщины, которая помогла бы ему вновь родиться. Лишь прожив новую жизнь соответствующим образом, Роланд мог бы надеяться на прощение себя и родителей.
Геннадий Демарёв
ПЕСНЬ О РОЛАНДЕ. (После смерти)
«Всякое действие человека есть
своеобразный магический акт,
предопределённый с начала мира.
Поэтому все наши попытки увильнуть от
предназначения не только заранее обречены
на неудачу, но даже более того: они
способны лишь приблизить исполнение
предназначения по тому или иному
из его бесчисленных путей. Ибо всё во
Вселенной существует в строгом
согласии с Великим Законом, имя
которому Бог. Всякий, пытающийся
отступить от предназначения,
оказывается вне Закона, с того момента
обрекая себя и своих потомков
на гибель и забвение.»
Г. И. Демарёв «Гильотинированные цветы»
«Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив верный путь во тьме долины.»
Данте А. «Божественная комедия»
Вместо предисловия
Наварра – испанское словечко, обозначающее название маленького, сурового и, вместе с тем, живописного края; впервые оно было услышано Юлием Цезарем в период Галльских походов. Однако ни сам Цезарь, ни полудикие галлы и наварры, его современники, ни на миг не осмелились бы предположить, что этой земле суждено занять весомое место в политике деятелей грядущих времён. Даже сам Генрих Четвёртый Наваррский в своё время выскажет удивление по сему поводу:
– Неужели?! Моя Наварра слишком маленькая и бедная, чтобы претендовать на подобную роль.
– Как раз благодаря тому, что Наварра такая маленькая и бедная, она и занимает в мировой политике столь весомое место, – ответит ему мудрейший Шико в романе непревзойдённого А.Дюма «Сорок пять».
Как показали последующие годы, Шико оказался прав не менее, чем Кумская сивилла или Дельфийский оракул; однако, в наши намерения отнюдь не входит нахальное повторение цитат из произведений французского романиста, как, впрочем, и соприкосновение с веком Варфоломеевской ночи, ибо начало нашего повествования уходит во времена значительно более древние, нежели Генрих Четвёртый, Шико и славная Екатерина Медичи.
Тем не менее, те из наших читателей, которые имели честь быть знакомыми с романами А.Дюма, при упоминании о Наварре должны были испытать тот самый, знакомый с детства трепет, который возникает в предчувствии приключений, великих интриг, большой политики, отравлений, любовных историй и всех прочих элементов, придающих роману почётную степень увлекательного. На все вопросы, возникшие в сие мгновение в сознании читателей, размышляющих о том, стоит ли уделять драгоценное внимание нашей «Песни…», с сомнением или опаской взывающих к собственной интуиции: «А будут ли здесь интриги, смерти, любовь, мудрость, сражения; иными словами, интересна ли сия вещь?», осмелимся ответить вслух:
– Почти.
«То есть, как это – почти?» – удивитесь вы.
– Очень просто, – отвечает ваш покорный слуга. – Обещать вам что-либо могло бы означать проявление нескромности. Только что я почтительно отзывался о Дюма. На фоне его гениальности можно ли сметь столь же благосклонно отзываться о собственном сочинении? Боже упаси творческую личность от всяких проявлений бахвальства или мании величия! Суровый жизненный путь научил меня относиться с подозрением к чужим похвалам, ибо если кто-нибудь тебя хвалит в лицо, значит желает тебе зла. Каким же будет зло в случае, если автор станет хвалить своё произведение самолично?…
Как повар, приготовивший кушанье по новому рецепту, приглашает любопытных отведать его блюдо, так и мы, сравнивая читателя с истым гурманом, стремящимся поскорее составить впечатление о нашей стряпне, приглашаем его расслабиться и настоятельно рекомендуем испробовать. Поверьте, что здесь вдоволь и чеснока, и перца, и многих других заморских пряностей!
Часть 1
Много ли выпадает счастливых минут в жизни воина? Как правило, сия жизнь, словно женщина, чрезвычайно хрупка и её продолжительность зависит от слишком большого числа разнообразных случайностей, каждая из которых – ощутимый след если не на теле воина, то в его сердце. Поле битвы всегда благосклонно к сильным; слабаку на войне делать нечего, – ему следует дожидаться исхода событий дома или, в лучшем случае, сопровождать боевое подразделение где-нибудь в хвосте обоза, подальше от неприятельских копий, мечей и стрел. Даже сильный телом и духом воитель, закалённый во многих битвах, иногда способен подвергаться влиянию меланхолии – основного бича судьбы, преследующего профессионалов. Так было с Сократом, слывшим в свою эпоху неплохим рубакой: однажды после боя он окинул взглядом горы трупов, реки пролитой крови, и спросил себя и богов: «Зачем?» Сей вопрос стоил ему карьеры воина и превратил рубаку в философа, а философы, как известно, не могут участвовать в сражениях, ибо их останавливает всё тот же мудрый вопрос: «Зачем?» Во благо родины? – но родине вовсе не нужны завоевания чужих территорий, потому что на то она и родина, чтобы оставаться единственной и дорогой; если к ней присоединяются новые земли, она перестает быть родиной, превращаясь в империю – тяжёлое, грузное, служащее источником власти и обогащения для одних людей и тяжёлых страданий – для других. Во имя народа? – смешно, поскольку народ не нуждается в новых землях; ему бы найти силы и мудрость для сохранения собственной. Да и смотря что имеется в виду под понятием «народ»… Ради будущего? – но будущее никогда не сумеет превзойти прошлого. Во имя славы, героизма, подвига? А что такое слава, героизм, подвиг? – мишура, иллюзия, бредовый сон. А дальше что – пустота?
Примерно так рассуждает философ; из этих рассуждений становится понятным его презрение к войне. Однако, если в конце восьмого столетия от Рождества Христова таковых было известно слишком мало в Европе для того, чтобы такие понятия, как война и оружие стали повсеместно порицаемы, в наше время их и того меньше.
Первобытный Страх, глубоко сидящий внутри всякого человеческого существа, призывает его постоянно заботиться о защите своей плотской оболочки, – субстанции слишком хрупкой, а посему и весьма чувствительной к боли. В глубокой древности достаточно было самолично убить дикого зверя, чтобы вызвать к своей персоне то уважение соплеменников, которое необходимо для уверенности в том, что, к примеру, вы не будете предательски убиты сегодня или завтра. В более поздние времена быть сильным и ловким оказалось мало: требовалось также показать себя учёным и мудрым, сочинять гимны в честь богов, петь красивые песни и играть на кифаре, а для пущей уверенности в безопасности мало-мальски предприимчивый муж предпочитал обзавестись десятком-другим хорошо обученных телохранителей. Однако, по мере устремлённости развития человеческой цивилизации к накоплению материальных благ возрастало и количество разнообразных пороков людей. И однажды наступил момент, когда для уверенности в завтрашнем дне оказалось недостаточным содержание табуна телохранителей, а понадобились целые армии, на содержание которых требовалась уйма средств; местных ресурсов катастрофически недоставало, и сия недостача властно увлекала взоры повелителей в разные стороны.
Пришел, увидел, победил… Побеждать возможно только с безукоризненно выученным и закалённым войском. В таком войске не место слабакам и философам, рассуждающим о смысле жизни, о слабости человеческой, о превратностях судьбы, о смерти и ничтожестве человеческого бытия, – здесь нужны крепкие, здоровые, грубые, жестокие рубаки, и желательно, чтобы они вовсе не обнаруживали способности к рассуждениям. Нужно, чтобы для них основным мерилом ценностей стало мнение начальника, точкой опоры, рычагом всех поступков – приказ полководца, а движущей силой – нытье старых заскорузлых шрамов на теле и предчувствие скорой наживы в случае победы. Если у солдат более не хватает сил, крик «Монжуа!», брошенный начальником, должен немедленно пробудить в них древнее хищное желание вгрызться в горло неприятеля одними зубами, отнять у него меч; если воину вдруг взбрело в башку усомниться в правильности действий командира, тот же клич должен развеять не только сомнения, но и вообще всякие мысли в отупевших мозгах. Древний клич, кровожадный, зовущий к победе…
Сколько же выпадает в жизни среднеарифметического рубаки счастливых минут? Это уж смотря, что подразумевать под словом «счастье». Для одних счастье – ощутить обонянием сладостный аромат битвы, сдобренный кровью врага; для других – сытный ужин за счёт неприятеля, вслед за которым последует продолжительный сон без сновидений; для третьих – тот долгожданный миг, когда завоеватель врывается в город; для четвёртых – процесс срывания драгоценностей с тел поверженных врагов; для пятых – в утолении жажды насилия над беспомощными остатками защитников, в обладании чужими женщинами, в преодолении их сопротивления; для шестых – в возвышении над себе подобными, воплощаемом посредством похвал из уст начальства перед строем, в назначении на должность мелкого командирчика и т. д. Каждый из перечисленных, как и десятки иных возможных критериев, служит стимулом для профессионального воина, профессионального хищника, смертника – существа, добровольно избравшего для своей духовности путь вспять вдоль гладкого ствола древа эволюции. Его ничто не страшит, ничто не способно стать для него преградой; он силён и несёт смерть, он подвергается опасности быть убитым, потому должен убивать быстрее и больше, нежели другие, он ощущает себя всесильным, как сам клич «Монжуа!» Однако именно он на поверку оказывается наиболее слабым существом, в котором наиболее прочно обрёл власть Первобытный Страх: он убивает только для того, чтобы не быть убитым самому…
Так сколько счастливых минут выпадает на долю наиболее несчастных из наших сородичей – профессиональных воинов? Этого, к вящему сожалению вашего покорного слуги, не ведает никто, ибо для того, чтобы ответить на сей вопрос, следовало бы познать саму сущность Счастья вообще, что под силу разве что Господу Богу, который и есть Счастье. И, тем не менее, в меру наших человеческих возможностей, в меру опыта скромного человеческого разума, попытаемся вместить понятие о счастье, о счастливой минуте, в частности, для означенного выше профессионального солдата, в несколько абстрактном виде, приемлемом для большинства: счастливая минута – это та минута, когда воин ощущает себя в тесном единстве с порывом, порождённым уверенностью, исступлением и страстью к победе, – так, что мог бы, не задумываясь, сказать: «Я и есть порыв, я и есть всё. Я есть сила, я есть победа, я есть жизнь!»
Это – Ахилл, Геракл, Гектор; это образ силача-воина, провожая которого в поход, мать произносит:
– Со щитом или на щите!
Это тот тип, который, в силу ограниченности своего кругозора и извращённого отношения к жизни и себе самому, живёт исключительно стремлением к новым сражениям, жизнь воспринимает, как некую игру, а ложась отдыхать, видит в снах сражения и победы, героические поступки и подвиги, забывая при этом о тщете всяческих человеческих страстей, а также о том, что на всякого Гектора обязательно сыщется свой Ахилл, у всякого Ахилла существует своя уязвимая пята, а возомнившего о себе слишком многое Геракла может где-нибудь ожидать коварный Несс, отравленный плащ и глупая Деянира, которые «помогут» ему попасть на прижизненный погребальный костёр…
После таковых рассуждений в самый раз перенестись в далёкое прошлое, в те времена, когда даже лучшие из людей не стыдились своих инстинктов, столь неумолимо напоминающих человеку разумному о его взаимосвязи с природой, а уж в наименьшей степени стыдились их воины. Итак, почему бы нам, наконец, не бросить взгляд на военный лагерь в ночную пору, когда профессиональные Ахиллы, Гекторы, Гераклы и прочие, утомившись вследствие длительного перехода, забылись в глубоком сне?
Семьдесят тысяч воинов, больших и малых, смелых и не очень смелых, отважных и благоразумных, опытных и сорвиголов, богатых и нищих – все они в этот момент, а именно в одну из погожих ночей лета семьсот семьдесят восьмого года от Рождества Христова, забылись в глубоком сне, убаюканные нежным шёпотом лёгкого ветерка, гуляющего вдоль громадной общей колыбели, в которую превратилась для них Ронсевальская долина. В эти минуты множество спящих вповалку людей напоминает некий мифический единый, но многоликий организм, готовый по первому же сигналу боевого рожка вскочить на ноги и вступить в сражение; иными словами, поскольку мы не располагаем божественными возможностями заглянуть в сон хотя бы одного из спящих и внушить в его подсознание элемент добра, картина сия способна поразить наше воображение разве что непривычным количеством людей и оружия. Поэтому не будет ли интереснее обратить на колыбель внимание более пристальное, нежели на этих злых, кровожадных, но в данную минуту беспомощных больших детей, проявляющих в часы бодрствования нездоровый и опасный интерес к частной собственности и играм в войну?
Долина Ронсеваль, втиснутая всемогущей десницей Творца средь Пиренейских гор как естественная граница между Испанией и Францией, напоминает увеличенную до умопомрачительных размеров тарелку, окруженную тесной цепью скал и хребтов, из которой выйти возможно только на север и юго-восток по узким проходам через ущелья. Диаметр этого «блюдца» около пятидесяти километров, высота над уровнем моря – порядка полторы тысячи метров. Не всякому человеку могло прийти в голову желание прогуляться по этому местечку, – а такое желание почему-то всегда сопряжено с рядом нехороших последствий для природы, – потому Ронсеваль в описываемые времена способен был радовать взор всякого, кто способен был хотя бы изредка испытывать впечатления от красоты окружающей среды.
Сквозь толщу ночного мрака доносились крики диких зверей, завывание волков, рыскающих где-то вдали в поисках добычи, хлопанье тяжелых совиных крыльев; когда этот шум особенно надоедал медведю, он издавал угрожающее рычание, усиливаемое мощным эхом. Кое-где сквозь обрывистые хлопья облаков пробивалось мутное мерцание звезд, тотчас же отражаемое снежными вершинами. И тогда казалось, будто это вовсе не вершины гор, а странные неуклюжие гиганты, сияющие призраки былого величия стихий; древние, как мир, они молчаливо взирают на спящее войско, грустно покачивают куполообразными и конусообразными головами и вздыхают…
Было далеко за полночь, когда небосвод очистился от облаков и установилось безветрие. Тысячи звёзд рассыпались по чёрному куполу ночи, превратив его в диковинный ковёр необычайной красоты. Это было поистине потрясающее зрелище, способное увлечь дух человека к тому возвышению, на которое горазды бесконечность, величие, горы и разрежённый воздух.
Геннадий Демарев
Многим из вас известна версия жизнеописания доблестного рыцаря Роланда, изложенная в балладе о короле Карле Великом. Борясь с сарацинами, герой попадает в окружение мавров и гибнет с мечом в руке. Оказывается, ему заранее было известно о предстоящей гибели, которую он, по его мнению, вполне заслужил. Заслужил, поскольку именно смерть на поле боя могла стать своеобразным искуплением греха его родителей. К его сожалению, смерть не принесла ему облегчения, поскольку даже в потустороннем мире его не приняли ни в ад, ни в чистилище. Роланд обречён блуждать среди живых людей в поиске некой женщины, которая помогла бы ему вновь родиться. Лишь прожив новую жизнь соответствующим образом, Роланд мог бы надеяться на прощение себя и родителей.
Геннадий Демарёв
ПЕСНЬ О РОЛАНДЕ. (После смерти)
«Всякое действие человека есть
своеобразный магический акт,
предопределённый с начала мира.
Поэтому все наши попытки увильнуть от
предназначения не только заранее обречены
на неудачу, но даже более того: они
способны лишь приблизить исполнение
предназначения по тому или иному
из его бесчисленных путей. Ибо всё во
Вселенной существует в строгом
согласии с Великим Законом, имя
которому Бог. Всякий, пытающийся
отступить от предназначения,
оказывается вне Закона, с того момента
обрекая себя и своих потомков
на гибель и забвение.»
Г. И. Демарёв «Гильотинированные цветы»
«Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив верный путь во тьме долины.»
Данте А. «Божественная комедия»
Вместо предисловия
Наварра – испанское словечко, обозначающее название маленького, сурового и, вместе с тем, живописного края; впервые оно было услышано Юлием Цезарем в период Галльских походов. Однако ни сам Цезарь, ни полудикие галлы и наварры, его современники, ни на миг не осмелились бы предположить, что этой земле суждено занять весомое место в политике деятелей грядущих времён. Даже сам Генрих Четвёртый Наваррский в своё время выскажет удивление по сему поводу:
– Неужели?! Моя Наварра слишком маленькая и бедная, чтобы претендовать на подобную роль.
– Как раз благодаря тому, что Наварра такая маленькая и бедная, она и занимает в мировой политике столь весомое место, – ответит ему мудрейший Шико в романе непревзойдённого А.Дюма «Сорок пять».
Как показали последующие годы, Шико оказался прав не менее, чем Кумская сивилла или Дельфийский оракул; однако, в наши намерения отнюдь не входит нахальное повторение цитат из произведений французского романиста, как, впрочем, и соприкосновение с веком Варфоломеевской ночи, ибо начало нашего повествования уходит во времена значительно более древние, нежели Генрих Четвёртый, Шико и славная Екатерина Медичи.
Тем не менее, те из наших читателей, которые имели честь быть знакомыми с романами А.Дюма, при упоминании о Наварре должны были испытать тот самый, знакомый с детства трепет, который возникает в предчувствии приключений, великих интриг, большой политики, отравлений, любовных историй и всех прочих элементов, придающих роману почётную степень увлекательного. На все вопросы, возникшие в сие мгновение в сознании читателей, размышляющих о том, стоит ли уделять драгоценное внимание нашей «Песни…», с сомнением или опаской взывающих к собственной интуиции: «А будут ли здесь интриги, смерти, любовь, мудрость, сражения; иными словами, интересна ли сия вещь?», осмелимся ответить вслух:
– Почти.
«То есть, как это – почти?» – удивитесь вы.
– Очень просто, – отвечает ваш покорный слуга. – Обещать вам что-либо могло бы означать проявление нескромности. Только что я почтительно отзывался о Дюма. На фоне его гениальности можно ли сметь столь же благосклонно отзываться о собственном сочинении? Боже упаси творческую личность от всяких проявлений бахвальства или мании величия! Суровый жизненный путь научил меня относиться с подозрением к чужим похвалам, ибо если кто-нибудь тебя хвалит в лицо, значит желает тебе зла. Каким же будет зло в случае, если автор станет хвалить своё произведение самолично?…
Как повар, приготовивший кушанье по новому рецепту, приглашает любопытных отведать его блюдо, так и мы, сравнивая читателя с истым гурманом, стремящимся поскорее составить впечатление о нашей стряпне, приглашаем его расслабиться и настоятельно рекомендуем испробовать. Поверьте, что здесь вдоволь и чеснока, и перца, и многих других заморских пряностей!
Часть 1
Много ли выпадает счастливых минут в жизни воина? Как правило, сия жизнь, словно женщина, чрезвычайно хрупка и её продолжительность зависит от слишком большого числа разнообразных случайностей, каждая из которых – ощутимый след если не на теле воина, то в его сердце. Поле битвы всегда благосклонно к сильным; слабаку на войне делать нечего, – ему следует дожидаться исхода событий дома или, в лучшем случае, сопровождать боевое подразделение где-нибудь в хвосте обоза, подальше от неприятельских копий, мечей и стрел. Даже сильный телом и духом воитель, закалённый во многих битвах, иногда способен подвергаться влиянию меланхолии – основного бича судьбы, преследующего профессионалов. Так было с Сократом, слывшим в свою эпоху неплохим рубакой: однажды после боя он окинул взглядом горы трупов, реки пролитой крови, и спросил себя и богов: «Зачем?» Сей вопрос стоил ему карьеры воина и превратил рубаку в философа, а философы, как известно, не могут участвовать в сражениях, ибо их останавливает всё тот же мудрый вопрос: «Зачем?» Во благо родины? – но родине вовсе не нужны завоевания чужих территорий, потому что на то она и родина, чтобы оставаться единственной и дорогой; если к ней присоединяются новые земли, она перестает быть родиной, превращаясь в империю – тяжёлое, грузное, служащее источником власти и обогащения для одних людей и тяжёлых страданий – для других. Во имя народа? – смешно, поскольку народ не нуждается в новых землях; ему бы найти силы и мудрость для сохранения собственной. Да и смотря что имеется в виду под понятием «народ»… Ради будущего? – но будущее никогда не сумеет превзойти прошлого. Во имя славы, героизма, подвига? А что такое слава, героизм, подвиг? – мишура, иллюзия, бредовый сон. А дальше что – пустота?
Примерно так рассуждает философ; из этих рассуждений становится понятным его презрение к войне. Однако, если в конце восьмого столетия от Рождества Христова таковых было известно слишком мало в Европе для того, чтобы такие понятия, как война и оружие стали повсеместно порицаемы, в наше время их и того меньше.
Первобытный Страх, глубоко сидящий внутри всякого человеческого существа, призывает его постоянно заботиться о защите своей плотской оболочки, – субстанции слишком хрупкой, а посему и весьма чувствительной к боли. В глубокой древности достаточно было самолично убить дикого зверя, чтобы вызвать к своей персоне то уважение соплеменников, которое необходимо для уверенности в том, что, к примеру, вы не будете предательски убиты сегодня или завтра. В более поздние времена быть сильным и ловким оказалось мало: требовалось также показать себя учёным и мудрым, сочинять гимны в честь богов, петь красивые песни и играть на кифаре, а для пущей уверенности в безопасности мало-мальски предприимчивый муж предпочитал обзавестись десятком-другим хорошо обученных телохранителей. Однако, по мере устремлённости развития человеческой цивилизации к накоплению материальных благ возрастало и количество разнообразных пороков людей. И однажды наступил момент, когда для уверенности в завтрашнем дне оказалось недостаточным содержание табуна телохранителей, а понадобились целые армии, на содержание которых требовалась уйма средств; местных ресурсов катастрофически недоставало, и сия недостача властно увлекала взоры повелителей в разные стороны.
Пришел, увидел, победил… Побеждать возможно только с безукоризненно выученным и закалённым войском. В таком войске не место слабакам и философам, рассуждающим о смысле жизни, о слабости человеческой, о превратностях судьбы, о смерти и ничтожестве человеческого бытия, – здесь нужны крепкие, здоровые, грубые, жестокие рубаки, и желательно, чтобы они вовсе не обнаруживали способности к рассуждениям. Нужно, чтобы для них основным мерилом ценностей стало мнение начальника, точкой опоры, рычагом всех поступков – приказ полководца, а движущей силой – нытье старых заскорузлых шрамов на теле и предчувствие скорой наживы в случае победы. Если у солдат более не хватает сил, крик «Монжуа!», брошенный начальником, должен немедленно пробудить в них древнее хищное желание вгрызться в горло неприятеля одними зубами, отнять у него меч; если воину вдруг взбрело в башку усомниться в правильности действий командира, тот же клич должен развеять не только сомнения, но и вообще всякие мысли в отупевших мозгах. Древний клич, кровожадный, зовущий к победе…
Сколько же выпадает в жизни среднеарифметического рубаки счастливых минут? Это уж смотря, что подразумевать под словом «счастье». Для одних счастье – ощутить обонянием сладостный аромат битвы, сдобренный кровью врага; для других – сытный ужин за счёт неприятеля, вслед за которым последует продолжительный сон без сновидений; для третьих – тот долгожданный миг, когда завоеватель врывается в город; для четвёртых – процесс срывания драгоценностей с тел поверженных врагов; для пятых – в утолении жажды насилия над беспомощными остатками защитников, в обладании чужими женщинами, в преодолении их сопротивления; для шестых – в возвышении над себе подобными, воплощаемом посредством похвал из уст начальства перед строем, в назначении на должность мелкого командирчика и т. д. Каждый из перечисленных, как и десятки иных возможных критериев, служит стимулом для профессионального воина, профессионального хищника, смертника – существа, добровольно избравшего для своей духовности путь вспять вдоль гладкого ствола древа эволюции. Его ничто не страшит, ничто не способно стать для него преградой; он силён и несёт смерть, он подвергается опасности быть убитым, потому должен убивать быстрее и больше, нежели другие, он ощущает себя всесильным, как сам клич «Монжуа!» Однако именно он на поверку оказывается наиболее слабым существом, в котором наиболее прочно обрёл власть Первобытный Страх: он убивает только для того, чтобы не быть убитым самому…
Так сколько счастливых минут выпадает на долю наиболее несчастных из наших сородичей – профессиональных воинов? Этого, к вящему сожалению вашего покорного слуги, не ведает никто, ибо для того, чтобы ответить на сей вопрос, следовало бы познать саму сущность Счастья вообще, что под силу разве что Господу Богу, который и есть Счастье. И, тем не менее, в меру наших человеческих возможностей, в меру опыта скромного человеческого разума, попытаемся вместить понятие о счастье, о счастливой минуте, в частности, для означенного выше профессионального солдата, в несколько абстрактном виде, приемлемом для большинства: счастливая минута – это та минута, когда воин ощущает себя в тесном единстве с порывом, порождённым уверенностью, исступлением и страстью к победе, – так, что мог бы, не задумываясь, сказать: «Я и есть порыв, я и есть всё. Я есть сила, я есть победа, я есть жизнь!»
Это – Ахилл, Геракл, Гектор; это образ силача-воина, провожая которого в поход, мать произносит:
– Со щитом или на щите!
Это тот тип, который, в силу ограниченности своего кругозора и извращённого отношения к жизни и себе самому, живёт исключительно стремлением к новым сражениям, жизнь воспринимает, как некую игру, а ложась отдыхать, видит в снах сражения и победы, героические поступки и подвиги, забывая при этом о тщете всяческих человеческих страстей, а также о том, что на всякого Гектора обязательно сыщется свой Ахилл, у всякого Ахилла существует своя уязвимая пята, а возомнившего о себе слишком многое Геракла может где-нибудь ожидать коварный Несс, отравленный плащ и глупая Деянира, которые «помогут» ему попасть на прижизненный погребальный костёр…
После таковых рассуждений в самый раз перенестись в далёкое прошлое, в те времена, когда даже лучшие из людей не стыдились своих инстинктов, столь неумолимо напоминающих человеку разумному о его взаимосвязи с природой, а уж в наименьшей степени стыдились их воины. Итак, почему бы нам, наконец, не бросить взгляд на военный лагерь в ночную пору, когда профессиональные Ахиллы, Гекторы, Гераклы и прочие, утомившись вследствие длительного перехода, забылись в глубоком сне?
Семьдесят тысяч воинов, больших и малых, смелых и не очень смелых, отважных и благоразумных, опытных и сорвиголов, богатых и нищих – все они в этот момент, а именно в одну из погожих ночей лета семьсот семьдесят восьмого года от Рождества Христова, забылись в глубоком сне, убаюканные нежным шёпотом лёгкого ветерка, гуляющего вдоль громадной общей колыбели, в которую превратилась для них Ронсевальская долина. В эти минуты множество спящих вповалку людей напоминает некий мифический единый, но многоликий организм, готовый по первому же сигналу боевого рожка вскочить на ноги и вступить в сражение; иными словами, поскольку мы не располагаем божественными возможностями заглянуть в сон хотя бы одного из спящих и внушить в его подсознание элемент добра, картина сия способна поразить наше воображение разве что непривычным количеством людей и оружия. Поэтому не будет ли интереснее обратить на колыбель внимание более пристальное, нежели на этих злых, кровожадных, но в данную минуту беспомощных больших детей, проявляющих в часы бодрствования нездоровый и опасный интерес к частной собственности и играм в войну?
Долина Ронсеваль, втиснутая всемогущей десницей Творца средь Пиренейских гор как естественная граница между Испанией и Францией, напоминает увеличенную до умопомрачительных размеров тарелку, окруженную тесной цепью скал и хребтов, из которой выйти возможно только на север и юго-восток по узким проходам через ущелья. Диаметр этого «блюдца» около пятидесяти километров, высота над уровнем моря – порядка полторы тысячи метров. Не всякому человеку могло прийти в голову желание прогуляться по этому местечку, – а такое желание почему-то всегда сопряжено с рядом нехороших последствий для природы, – потому Ронсеваль в описываемые времена способен был радовать взор всякого, кто способен был хотя бы изредка испытывать впечатления от красоты окружающей среды.
Сквозь толщу ночного мрака доносились крики диких зверей, завывание волков, рыскающих где-то вдали в поисках добычи, хлопанье тяжелых совиных крыльев; когда этот шум особенно надоедал медведю, он издавал угрожающее рычание, усиливаемое мощным эхом. Кое-где сквозь обрывистые хлопья облаков пробивалось мутное мерцание звезд, тотчас же отражаемое снежными вершинами. И тогда казалось, будто это вовсе не вершины гор, а странные неуклюжие гиганты, сияющие призраки былого величия стихий; древние, как мир, они молчаливо взирают на спящее войско, грустно покачивают куполообразными и конусообразными головами и вздыхают…
Было далеко за полночь, когда небосвод очистился от облаков и установилось безветрие. Тысячи звёзд рассыпались по чёрному куполу ночи, превратив его в диковинный ковёр необычайной красоты. Это было поистине потрясающее зрелище, способное увлечь дух человека к тому возвышению, на которое горазды бесконечность, величие, горы и разрежённый воздух.