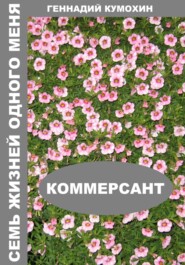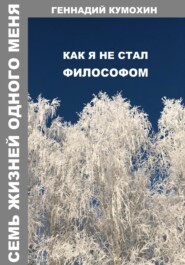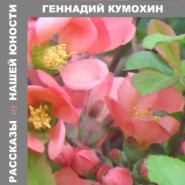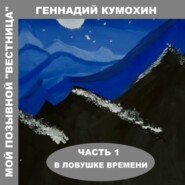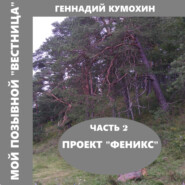По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Семь жизней одного меня. Студент
Год написания книги
2025
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Семь жизней одного меня. Студент
Геннадий Вениаминович Кумохин
В книге помещена глава романа «Семь жизней одного меня».
В коротких рассказах, именуемых автором клипами, повествуется об учебе в институте и самообразовании героя.
Автор является собственником фотографии, помещенной на обложке.
Геннадий Кумохин
Семь жизней одного меня. Студент
Первокурсник
И вот – я студент. Начиналась новая, взрослая жизнь, в которой я знал только одно – мне предстоит много учиться.
Большинство ребят были из районов ближайшего к институту Подмосковья. Они знали о нашем факультете и строили свои планы на будущее с учетом возможной работы на одном из почтовых ящиков, расположенных поблизости.
Среди москвичей и жителей Подмосковья выделялась группа ребят, которых я условно мог бы назвать «залетными». К ним я самокритично относил и себя. Это были люди, случайно оказавшиеся на этом факультете. Многие из них поступали в престижные вузы столицы: МГУ, МИФИ, МФТИ, но не прошли по конкурсу или провалились.
Характерной чертой этих ребят было несколько высокомерное ко всему отношение и весьма поверхностный, я бы сказал, «шапкозакидательский» взгляд на учебу.
Кстати, большинство из тех, кого отчислили после первого семестра, были ребята именно из этой категории.
На нашей специальности было совсем мало девушек. В нашей группе всего три на человек двадцать ребят.
А в общежитии с нашего потока жили только четверо ребят.
В большом пятиэтажном общежитии, расположенном как раз напротив института, располагались буфет, красный уголок с цветным телевизором первого поколения «Радуга», профилакторий, разные подсобные помещения и душевая, в которой один день был мужской, а другой женский.
На первых этажах жили студенты основных факультетов: обработки древесины и организации производства.
Пятый этаж был отдан нашему факультету. В правом крыле п-образного этажа жили ребята, а в левом – девушки. Мы застали еще чуть ли не первый набор факультета. Это были парни значительно старше нас, успевшие отслужить в армии и придерживающиеся в общаге типичных бурсацких порядков.
Однажды в воскресенье утром мы проснулись от истошного визга, исходившего из крайних комнат левого крыла, но постепенно смещавшегося к центру. Оказывается, один из старшекурсников, некто Капитанов, проигрался ночью в преферанс и теперь должен был выполнить желание: пройти голым по карнизу внутреннего периметра пятого этажа и постучать по очереди в окно каждой комнаты. Что он в точности и выполнил.
Весь институтский городок, вместе с примкнувшим к нему небольшим дачным поселком, находился в треугольнике, образованном железнодорожными путями двух Подмосковных направлений. Замыкал боковые стороны этого треугольника кардиологический санаторий, центральная дорожка которого протянулась почти до платформы «Подлипки».
Со стороны поселка никаких ограждений в санаторий не было, и две, или три асфальтированные улочки поселка естественным образом переходили в тропинки санатория.
Первым делом с прибытием в институт я определился с маршрутом моих ежедневных пробежек. Утром, пробегая по улочке, ведущей к железнодорожной платформе, я иногда встречал своих однокурсников, спешащих на первую пару лекций.
В общежитии я долго плескался родниковой водой в угловой комнате, где вдоль стен стояли раковины с типовыми латунными кранами. Горячей воды на этаже, естественно, не было.
Иногда повторно я выбегал уже в глубоких сумерках. В этих случаях можно было позволить себе выбрать освещенную дорожку санатория. А можно пробежать по тропинкам между редких стволов сосен и густого березового подлеска, никак не регулируемого на подступах к поселку. При этом мне приходилось передвигаться легкой трусцой, на цыпочках, стараясь едва касаться земли, перевитой толстыми корнями вековых деревьев.
С началом учебы на первом курсе в общежитии не оказалось достаточного количества свободных мест, и нас поселили впятером в комнате, рассчитанной на четверых. Самым старшим из нас оказался только что отслуживший в армии парень. Он попытался установить в комнате атмосферу казармы, причем для себя отводил роль старослужащего. Все бы ничего, но мне не нравилась его привычка приводить в комнату на ночь подружку. Ребята жаловались, что скрип пружин не дает им уснуть, а мне это не мешало – я засыпал мгновенно.
К новому году появилась возможность немного разуплотниться, и меня, как самого некомпанейского, явочным порядком перевели в комнату к заочникам.
Я имел возможность познакомиться с распорядком дня «вечных» студентов, потому что некоторые из них учились уже по многу лет. Просыпались они часам к двенадцати, завтракали в обед, затем иногда шли в институт. К вечеру набиралось в нашу комнату человек десять, поиграть в карты, в основном в «дурака». К полуночи начинали жарить картошку и ужинать под водочку. Поскольку я в одиннадцать часов всегда ложился спать, то однажды у честной компании возник резонный вопрос: а действительно ли спит этот «чудик» или притворяется. Попробовали разбудить, не проснулся. Пощекотали – ноль реакции. Тогда решили взять за руки и за ноги, поднять и потрясти.
Когда и после этого я не проснулся, решили больше не проводить экспериментов.
– Да этот парень просто железный, – сказал кто-то, и меня зауважали.
В общем, это были славные ребята. С некоторыми я по-дружески общался вплоть до конца своей учебы.
После окончания сессии заочники разъехались и на освободившиеся места начали заселять моих однокашников. На правах старожила я ставил перед новичками простые условия: в комнате не курить и подружек на ночь не водить. Теперь уже никто не мешал мне в свободное время усесться на кровати, подложив под спину подушку, и читать очередной том «Всемирной истории» или «Всеобщей истории искусств».
Эти книги я обнаружил в институтской библиотеке и брал в общежитие по одному увесистому тому.
В суете новых впечатлений и знакомств я ни на минуту не забывал о своей главной цели, ради которой я, собственно и поступил в этот институт.
Еще в средине восьмого класса я выбрал для себя программу самообразования и с тех пор старался ей неуклонно следовать. Уже в одну из первых поездок в Москву я получил читательский билет в общий зал библиотеки имени Ленина, который располагался в Доме Пашкова.
Уже божественной красоты одного этого здания хватило бы для того, чтобы непрестанно манить меня. Но здесь было то, что я ценил больше всех сокровищ мира – книги, неисчислимое множество книг. И самое главное – я мог выбрать любую из них и уже через час получить ее.
В одно из первых посещений Музея изобразительных искусств имени Пушкина я попал на выставку графики Пикассо. Вернее, не то что бы так просто взял и попал. Для того, чтобы пройти в музей, мне пришлось часов пять простоять в очереди, которая опоясывала почти половину ограды музея. И это был я, который терпеть не мог очередей и готов был отказаться от чего угодно материального, лишь бы не стоять в унижающей, как мне казалось, человеческое достоинство толпе.
Но эта очередь не казалась мне унижающей чье-либо достоинство, и то же самое испытывали люди, стоящие вокруг, которые оживленно переговаривались и спорили о достоинствах работ этого художника.
Все это только еще больше возбуждало мое любопытство.
Еще большее столпотворение происходило в самом Пушкинском музее. Мне приходилось проталкиваться к картине то и дело отвлекаясь, для того чтобы послушать аргументы той или иной оживленно спорящей группы людей. Нельзя сказать, что картины Пикассо оставили меня равнодушным. Нет, они поражали, возбуждали и отталкивали одновременно, но в гораздо большее возбуждение приводили меня рассуждения о теоретических идеях, на основании которых они создавались.
Мне было трудно уследить за аргументами спорщиков, которые ссылались на работы неизвестных мне художников и авторов работ о теории живописи. Чаще других звучали имена: Моне, Гоген, Ван-Гог, Сезанн, непривычные названия: импрессионизм и постимпрессионизм. А также автора книг – Ревальда.
Усталый, но до крайности заинтригованный вернулся я в общежитие, решив разобраться в хитросплетениях аргументов самостоятельно. При первой же возможности я отправился в Ленинку и заказал книгу Джона Ревальда «История импрессионизма».
Книга настолько захватила меня, что я прочел ее от корки до корки, потом отправился в Пушкинский музей, для того, чтобы посмотреть только на эти картины. Итогом этой экскурсии явилось то, что я влюбился в живопись импрессионистов. В известном смысле у меня буквально открылись глаза на окружающий мир.
И до того неравнодушный к природе, я учился как бы заново ее видеть, и это приносило мне большую радость.
Я купил в Пушкинском музее абонемент на пару самых интересных циклов лекций о французской живописи. Некоторые из лекций читала, как мне кажется, сама Ирина Антонова.
А еще я приобрел абонемент в Малый зал Консерватории на цикл популярной классической музыки, с вступительным словом на который выходила еще молодая Светлана Виноградова.
И абонемент на балкон в Концертный зал Чайковского, по-моему, на цикл органной музыки.
Так я начал свою студенческую жизнь.
Первая сессия
Первые месяцы учебы в институте пролетели почти незаметно, а когда начались зачеты, мы всем своим нутром почувствовали приближение грозной экзаменационной сессии, которая для некоторых из нас должна была стать последней в этом институте.
Начало экзамена по математическому анализу, первого в моей студенческой жизни, казалось, не предвещало ничего плохого. Я бодро вытянул билет и сел за третий или четвертый стол готовиться. Правда, мне несколько мешали тетрадные листы, которые сунул мне кто-то перед самой дверью в аудиторию, очевидно из самых добрых побуждений. Я до сих пор ни разу не пользовался шпаргалками, и не собирался делать это и сейчас, поэтому я вынул листки и сунул их в открытый ящик стола.
Скоро ответы на билет были готовы и, дожидаясь своей очереди, я от нечего делать стал смотреть по сторонам. Передо мной сидел Саша Цыкин, маленький тихий парнишка. Я с интересом наблюдал, как он умудрялся перелистывать листы конспекта правой ногой, в то время, как сам конспект лежал у него на левой. В конце концов он его уронил. Наш преподаватель быстро подошел к нему, поднял конспект и, не сказав ни слова, отдал ему зачетку «неуд».
Геннадий Вениаминович Кумохин
В книге помещена глава романа «Семь жизней одного меня».
В коротких рассказах, именуемых автором клипами, повествуется об учебе в институте и самообразовании героя.
Автор является собственником фотографии, помещенной на обложке.
Геннадий Кумохин
Семь жизней одного меня. Студент
Первокурсник
И вот – я студент. Начиналась новая, взрослая жизнь, в которой я знал только одно – мне предстоит много учиться.
Большинство ребят были из районов ближайшего к институту Подмосковья. Они знали о нашем факультете и строили свои планы на будущее с учетом возможной работы на одном из почтовых ящиков, расположенных поблизости.
Среди москвичей и жителей Подмосковья выделялась группа ребят, которых я условно мог бы назвать «залетными». К ним я самокритично относил и себя. Это были люди, случайно оказавшиеся на этом факультете. Многие из них поступали в престижные вузы столицы: МГУ, МИФИ, МФТИ, но не прошли по конкурсу или провалились.
Характерной чертой этих ребят было несколько высокомерное ко всему отношение и весьма поверхностный, я бы сказал, «шапкозакидательский» взгляд на учебу.
Кстати, большинство из тех, кого отчислили после первого семестра, были ребята именно из этой категории.
На нашей специальности было совсем мало девушек. В нашей группе всего три на человек двадцать ребят.
А в общежитии с нашего потока жили только четверо ребят.
В большом пятиэтажном общежитии, расположенном как раз напротив института, располагались буфет, красный уголок с цветным телевизором первого поколения «Радуга», профилакторий, разные подсобные помещения и душевая, в которой один день был мужской, а другой женский.
На первых этажах жили студенты основных факультетов: обработки древесины и организации производства.
Пятый этаж был отдан нашему факультету. В правом крыле п-образного этажа жили ребята, а в левом – девушки. Мы застали еще чуть ли не первый набор факультета. Это были парни значительно старше нас, успевшие отслужить в армии и придерживающиеся в общаге типичных бурсацких порядков.
Однажды в воскресенье утром мы проснулись от истошного визга, исходившего из крайних комнат левого крыла, но постепенно смещавшегося к центру. Оказывается, один из старшекурсников, некто Капитанов, проигрался ночью в преферанс и теперь должен был выполнить желание: пройти голым по карнизу внутреннего периметра пятого этажа и постучать по очереди в окно каждой комнаты. Что он в точности и выполнил.
Весь институтский городок, вместе с примкнувшим к нему небольшим дачным поселком, находился в треугольнике, образованном железнодорожными путями двух Подмосковных направлений. Замыкал боковые стороны этого треугольника кардиологический санаторий, центральная дорожка которого протянулась почти до платформы «Подлипки».
Со стороны поселка никаких ограждений в санаторий не было, и две, или три асфальтированные улочки поселка естественным образом переходили в тропинки санатория.
Первым делом с прибытием в институт я определился с маршрутом моих ежедневных пробежек. Утром, пробегая по улочке, ведущей к железнодорожной платформе, я иногда встречал своих однокурсников, спешащих на первую пару лекций.
В общежитии я долго плескался родниковой водой в угловой комнате, где вдоль стен стояли раковины с типовыми латунными кранами. Горячей воды на этаже, естественно, не было.
Иногда повторно я выбегал уже в глубоких сумерках. В этих случаях можно было позволить себе выбрать освещенную дорожку санатория. А можно пробежать по тропинкам между редких стволов сосен и густого березового подлеска, никак не регулируемого на подступах к поселку. При этом мне приходилось передвигаться легкой трусцой, на цыпочках, стараясь едва касаться земли, перевитой толстыми корнями вековых деревьев.
С началом учебы на первом курсе в общежитии не оказалось достаточного количества свободных мест, и нас поселили впятером в комнате, рассчитанной на четверых. Самым старшим из нас оказался только что отслуживший в армии парень. Он попытался установить в комнате атмосферу казармы, причем для себя отводил роль старослужащего. Все бы ничего, но мне не нравилась его привычка приводить в комнату на ночь подружку. Ребята жаловались, что скрип пружин не дает им уснуть, а мне это не мешало – я засыпал мгновенно.
К новому году появилась возможность немного разуплотниться, и меня, как самого некомпанейского, явочным порядком перевели в комнату к заочникам.
Я имел возможность познакомиться с распорядком дня «вечных» студентов, потому что некоторые из них учились уже по многу лет. Просыпались они часам к двенадцати, завтракали в обед, затем иногда шли в институт. К вечеру набиралось в нашу комнату человек десять, поиграть в карты, в основном в «дурака». К полуночи начинали жарить картошку и ужинать под водочку. Поскольку я в одиннадцать часов всегда ложился спать, то однажды у честной компании возник резонный вопрос: а действительно ли спит этот «чудик» или притворяется. Попробовали разбудить, не проснулся. Пощекотали – ноль реакции. Тогда решили взять за руки и за ноги, поднять и потрясти.
Когда и после этого я не проснулся, решили больше не проводить экспериментов.
– Да этот парень просто железный, – сказал кто-то, и меня зауважали.
В общем, это были славные ребята. С некоторыми я по-дружески общался вплоть до конца своей учебы.
После окончания сессии заочники разъехались и на освободившиеся места начали заселять моих однокашников. На правах старожила я ставил перед новичками простые условия: в комнате не курить и подружек на ночь не водить. Теперь уже никто не мешал мне в свободное время усесться на кровати, подложив под спину подушку, и читать очередной том «Всемирной истории» или «Всеобщей истории искусств».
Эти книги я обнаружил в институтской библиотеке и брал в общежитие по одному увесистому тому.
В суете новых впечатлений и знакомств я ни на минуту не забывал о своей главной цели, ради которой я, собственно и поступил в этот институт.
Еще в средине восьмого класса я выбрал для себя программу самообразования и с тех пор старался ей неуклонно следовать. Уже в одну из первых поездок в Москву я получил читательский билет в общий зал библиотеки имени Ленина, который располагался в Доме Пашкова.
Уже божественной красоты одного этого здания хватило бы для того, чтобы непрестанно манить меня. Но здесь было то, что я ценил больше всех сокровищ мира – книги, неисчислимое множество книг. И самое главное – я мог выбрать любую из них и уже через час получить ее.
В одно из первых посещений Музея изобразительных искусств имени Пушкина я попал на выставку графики Пикассо. Вернее, не то что бы так просто взял и попал. Для того, чтобы пройти в музей, мне пришлось часов пять простоять в очереди, которая опоясывала почти половину ограды музея. И это был я, который терпеть не мог очередей и готов был отказаться от чего угодно материального, лишь бы не стоять в унижающей, как мне казалось, человеческое достоинство толпе.
Но эта очередь не казалась мне унижающей чье-либо достоинство, и то же самое испытывали люди, стоящие вокруг, которые оживленно переговаривались и спорили о достоинствах работ этого художника.
Все это только еще больше возбуждало мое любопытство.
Еще большее столпотворение происходило в самом Пушкинском музее. Мне приходилось проталкиваться к картине то и дело отвлекаясь, для того чтобы послушать аргументы той или иной оживленно спорящей группы людей. Нельзя сказать, что картины Пикассо оставили меня равнодушным. Нет, они поражали, возбуждали и отталкивали одновременно, но в гораздо большее возбуждение приводили меня рассуждения о теоретических идеях, на основании которых они создавались.
Мне было трудно уследить за аргументами спорщиков, которые ссылались на работы неизвестных мне художников и авторов работ о теории живописи. Чаще других звучали имена: Моне, Гоген, Ван-Гог, Сезанн, непривычные названия: импрессионизм и постимпрессионизм. А также автора книг – Ревальда.
Усталый, но до крайности заинтригованный вернулся я в общежитие, решив разобраться в хитросплетениях аргументов самостоятельно. При первой же возможности я отправился в Ленинку и заказал книгу Джона Ревальда «История импрессионизма».
Книга настолько захватила меня, что я прочел ее от корки до корки, потом отправился в Пушкинский музей, для того, чтобы посмотреть только на эти картины. Итогом этой экскурсии явилось то, что я влюбился в живопись импрессионистов. В известном смысле у меня буквально открылись глаза на окружающий мир.
И до того неравнодушный к природе, я учился как бы заново ее видеть, и это приносило мне большую радость.
Я купил в Пушкинском музее абонемент на пару самых интересных циклов лекций о французской живописи. Некоторые из лекций читала, как мне кажется, сама Ирина Антонова.
А еще я приобрел абонемент в Малый зал Консерватории на цикл популярной классической музыки, с вступительным словом на который выходила еще молодая Светлана Виноградова.
И абонемент на балкон в Концертный зал Чайковского, по-моему, на цикл органной музыки.
Так я начал свою студенческую жизнь.
Первая сессия
Первые месяцы учебы в институте пролетели почти незаметно, а когда начались зачеты, мы всем своим нутром почувствовали приближение грозной экзаменационной сессии, которая для некоторых из нас должна была стать последней в этом институте.
Начало экзамена по математическому анализу, первого в моей студенческой жизни, казалось, не предвещало ничего плохого. Я бодро вытянул билет и сел за третий или четвертый стол готовиться. Правда, мне несколько мешали тетрадные листы, которые сунул мне кто-то перед самой дверью в аудиторию, очевидно из самых добрых побуждений. Я до сих пор ни разу не пользовался шпаргалками, и не собирался делать это и сейчас, поэтому я вынул листки и сунул их в открытый ящик стола.
Скоро ответы на билет были готовы и, дожидаясь своей очереди, я от нечего делать стал смотреть по сторонам. Передо мной сидел Саша Цыкин, маленький тихий парнишка. Я с интересом наблюдал, как он умудрялся перелистывать листы конспекта правой ногой, в то время, как сам конспект лежал у него на левой. В конце концов он его уронил. Наш преподаватель быстро подошел к нему, поднял конспект и, не сказав ни слова, отдал ему зачетку «неуд».