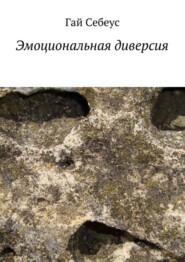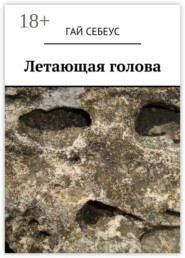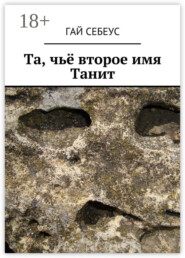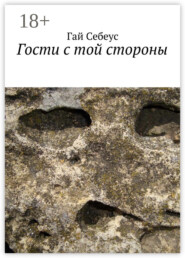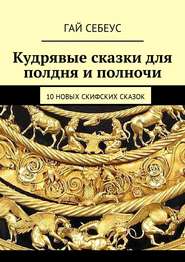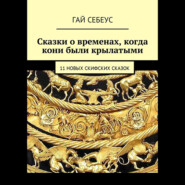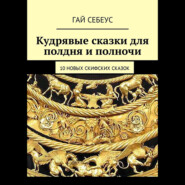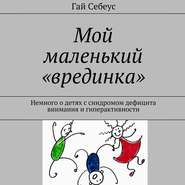По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Мой маленький «врединка». Немного о детях с синдромом дефицита внимания и гиперактивности
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Что мы и получили, благодаря нашему СДВГэшке.
Герман отлично овладел методикой провокаций.
Например, просто начинал с невинным видом назойливо ходить за кем-то и что-нибудь квакать в ухо. Пока не получал «ответку». Или приносил булавку и исподтишка колол ею всех подряд, в результате этой же булавкой и бывал до крови ободран сам. Мог обозвать чью-то маму гадким словом и получить за это «по сусалам». После чего носить фингал как медаль за заслуги и насыщаться от окружающих сочувствием.
Он всегда был, что называется, «в боевой готовности»: он изначально вёл себя так, что постоянно ждал удара «возмездия» за свои художества. Ждал и жаждал. А бывало, даже опережал этот удар. Пара ситуаций происходила при мне.
Сергей чисто автоматически поднял сменку Германа и положил на скамейку. И тут же получил от того мощный пинок ногой: «Не тронь чужое!» Ребята тут же возмутились. На этот раз Германа не отлупили только из-за моего присутствия. Но мне стали понятны внутренние побуждения детей в подобных ситуациях.
Или разговариваем мы с Германом, стоя в рекреации, о совершенно нейтральных вещах. Мимо пробегает Кирилл и строит гримасу ужаса. Герман, не долго думая, со всей дури, мгновенно лупит того сумкой по лицу.
В ужасе спрашиваю:
– За что? Он же тебе ничего не сделал плохого! А его гримаса могла даже не относиться к тебе! И вообще этот спокойный мальчик никогда раньше тебя не обижал!
Отвечает:
– Я автоматически, не подумав.
Насчёт «не подумав» – правда. Это на уровне инстинкта: забузовать всё вокруг, чтобы жизнь заштормила и эмоции заискрили. Вот это – по его, это настоящая жизнь!
После моих «вынюхиваний» пазл сложился. Стало понятно, что не класс травил Германа, а он «разводил» всех на эмоции. Потому что единственное, с чем он ни за что не мог смириться, это собственная неприметность.
Я вспомнил, как он активно переживал все свои отличные ответы в классе, любил ссылаться на них. Я вспоминал его фразы, типа: «Я вообще, очень талантливый с детства!»
Я вспомнил, что Герман – единственный поздний ребёнок в большой семье, состоящей из одних взрослых. Которые обожают его, любуются им, заинтересованно расспрашивают его о школьной жизни.
Не может же он привлечь внимание всей этой толпы серой рутиной! Зато трагические истории о том, как его травят и какой он в этой невыносимой обстановке благородный молодец – идут «на ура»! Он с рождения был для них центром Вселенной. В результате вырос эгоцентричным, эгоистичным и тщеславным.
Вот и вышло, что этот мальчик просто манипулировал окружающими в своих интересах: и детьми, и учителями, и родственниками.
А когда он жаловался родителям на то, что его последовательно травят, на самом деле вся эта «война» была только у него в голове. И по-настоящему в её поддержании заинтересован был лишь он. Ежедневно провоцировал кучу конфликтов, «купался» в них, насыщаясь эмоциями, а потом продолжал это «кровопитие» дома. Рассказывал, как он благородно подходит к своим обидчикам и протягивает «руку мира». Или «приносит свои извинения».
Его хвалят, рассказывают о его поведении гостям, бабушкам, соседям. Ему очень нравится быть в центре внимания. Чтобы все ахали и расспрашивали о его невыносимо трудной жизни. И сочувствовали и восхищались. А он упивался бы этими эмоциями и осознавал себя героем.
Такова жизнь эмоциональных манипуляторов. Мы для них – просто питательная среда, источник эмоций.
Всё изменилось, как только я разложил всё это для Германа «по полочкам», в присутствии родителей. Они, эрудированные люди, не чуждые интереса к психологии, склонны были согласиться со мной.
Вместе мы приняли решение перестать кормить «внутреннего эмоционального вампира». Ну, если уж он сильно изголодается, вести его в театр или на хоккей.
Зато в классе Герману поручено было еженедельно готовить интересный классный час. «Звездить», и насыщаться в процессе – сколько влезет!
Многих трудов стоило отучить Германа от страсти к организации конфликтов, научить его в стычках «брать паузу». Ещё сложней оказалось уговорить одноклассников не отвечать ему ударом на удар, не превращать себя в питательную среду для эмоционально голодного человека.
А вот от призывов к совести Германа пришлось отказаться. СДВГэшки не способны к сопереживанию. Самовлюблённость – их самая насущная потребность. Это их минус. Поэтому стоит просто приучать их к правилам взаимодействия людей в обществе. Но зато «гипер» не способен долго обижаться – это плюс.
Только понимание происходящих процессов, да ещё поддержка разумных родителей, помогли мне действовать результативно.
Как воспринимать СДВГ
То, что мать любит своё дитя любым – это понятно. И то, что родители поневоле в большей степени погружены в особенности ребёнка с СДВГ и уже умеют более или менее с ним управляться – тоже объяснимо. Дети с СДВГ – это крест родителей. Им деваться некуда.
Но как быть всем остальным?
Ведь детям с СДВГ очень сложно сочувствовать.
Они бывают жестоки и к людям, и к животным. Они назойливы и неуправляемы. Они склонны к криминалу и, случается, бывают вызывающе, демонстративно грубы. Порой они упиваются статусом неудачника и мстят-мстят-мстят всем и всему за непризнание, за неуспешность.
Да, причина такого поведения в специфике строения мозга или в нарушении его химического равновесия. Но как-то не хочется вспоминать об этом, когда такой ребёнок выведет тебя из равновесия!
Об СДВГ как о диагнозе известно с начала 20 века.
Но до сих пор, 100 лет спустя, в программах российских педагогических вузов нет специализированных курсов с программой работы с этими специфическими детьми. В лучшем случае – упоминание «по ходу», как об одном из пунктов в перечне.
И до сих пор большинство педагогов воспринимают «гиперов» как досадную помеху во время уроков, как результат недоработок родителей, как безобразников, мешающих их личным профессиональным успехам.
Педагогам можно посочувствовать в плане недостаточной квалифицированной подготовленности к встрече с подобными детишками. Им можно посочувствовать и в плане перегруженности.
Ведь когда перед тобой сидят 25 очень разных учеников, которых необходимо обучить предмету, очень непросто применять индивидуальный подход к 2—3 «гиперам», оторвавшись на это время от остальных. А тем более – подход должен быть специфическим: их ведь постоянно нужно держать в поле зрения, для них следует иметь отдельную программу действий.
Понятно, что родители остальных детей в классе без энтузиазма воспримут подобную обделённость своих чад учительским вниманием.
Так что всё непросто.
Детей с диагнозом СДВГ одни обзывают «рогатыми чертенятами», другие – считают потенциальными гениями, свободными от оков «матрицы», энергичными интеллектуально и физически – до неутомимости. Принято считать, что были гиперактивными, а за счёт этого стали гениальными Моцарт, Эйнштейн, Джон Кеннеди, Билл Клинтон, Билл Гейтс.
И негативное и воспевающее мнение – крайности. Истина, как всегда, посередине.
В невнимательности и избыточной активности дети с СДВГ невиноваты. Такие уж они уродились. Поэтому наказывать их за это, по меньшей мере, бесчеловечно.
Но и идеализировать их отрешённость и безбашенность не стоит. Доказано, что диапазон интеллектуального уровня у них такой же, как у обычных детей, поэтому гениев среди них не больше и не меньше, чем среди других. Они более энергичны, и бывает, что за счёт этого выигрывают.
Современные учёные всё чаще приходят к выводу, что СДВГ как заболевание, связанное со специфическим строением или состоянием мозга – это не плохо и не хорошо. Просто это биологический факт, с которым мы вынуждены считаться. И как разумные люди не отмахиваться от него, списывая особенности этих детей на безответственность родителей, плохую экологию или информационный взрыв.
Хотя, при желании, в СДВГ можно найти и плюсы, считая его «модной болезнью». Дающей гораздо больше возможностей, нежели «норма».
Англоязычные СМИ переполнены воспеваниями повышенных возможностей людей с СДВГ. По их мнению, такие люди всегда могут делать больше, чем обычные. Думать быстрее и одновременно об абсолютно разных вещах. Много идей одновременно – это же дар богов! – считают они. Каждый симптом они рассматривают не как минус, а как возможность, потенциал, как этап на пути к успеху.
Одной из таких теорий является, например, теория Тома Хартмана, согласно которой люди с СДВГ являются «охотниками в мире собирателей». Хартман перечисляет особенности мышления и поведения, присущие СДВГ, и переводит их в понятия существования охотника.
Он предполагает, что симптомы неустойчивого внимания в сочетании с повышенной активностью были способом выживания в доисторических человеческих обществах, занимающихся в основном охотой. Чтобы выжить, этим людям надо было быть импульсивными: уметь реагировать мгновенно, без раздумий, принимать решения резко. И лишь с появлением земледельчества актуальными, полезными стали иные навыки: терпеливость, сдержанность, умение планировать свои действия на сегодня, на год, на несколько лет.
Но и в наше время для определённых профессий, по мнению Хартмана, способность принимать мгновенные решения может стать судьбоносной. Например, для работников скорой помощи, авиадиспетчеров, автогонщиков.
Вот краткое изложение его теории:
«Красивую» теорию Хартмана критикует Рассел Баркли, профессор психиатрии и неврологии, автор 14 книг об СДВГ.