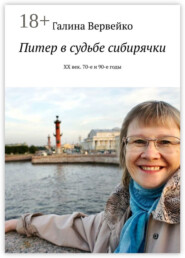По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
В родных Калачиках. Воспоминания о советском детстве
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Увидев у своей тёти Нади фотоальбом с фотографиями-открытками артистов, я решила завести себе такой же. Но она, уже вышедшая из школьного возраста, подарила мне – свой. Я была безмерно рада! Особенно мне нравились портреты молодых Людмилы Гурченко (из «Карнавальной ночи»), Владимира Коренева («Человек-амфибия») и балерины Галины Улановой (из Большого театра СССР). Мы с девчонками стали покупать в киосках открытки с артистами и меняться друг с другом. Высылали их своим друзьям по почте в другие города и сёла.
Вот что, например, мне писала подружка Пигулевская Тома из города Тольятти: «Здравствуй, моя милая Галка! Спасибо тебе за твоё письмо и за всё, что ты мне выслала в нём. Особенно – спасибо за артистку ТамаруЛогинову, у меня её фото как раз не было. Галя, открыток с Татьяной Дорониной и Людмилой Чурсиной нет у нас в магазинах, но как только появятся, то я обязательно куплю их тебе и вышлю. Сейчас я высылаю тебе фотки артистов Натальи Кустинской и Юрия Никулина. Они у меня были „двойные“, и я их высылаю. Галя, если у тебя есть „двойные“ артисты, то, пожалуйста, вышли их мне, а я тоже буду высылать тебе».
СТИХИ, ПЕСНИ, ГАДАЛКИ И ПОЖЕЛАНИЯ
У каждой из нас были свои «песенники» в общих тетрадях с известными песнями (словами) и стихами. Очень популярны были в то время стихи Эдуарда Асадова. Были в этих общих тетрадках и «гадалки». Мы рисовали палочки, потом считали их, и на эту цифру смотрели «что нас ждёт», читая.
Ещё любили, сделав из простых школьных тетрадок вертикальные блокнотики с завёрнутыми внутрь листами, писать новогодние пожелания, чтобы открыть их в таинственное время – 12 часов ночи, под бой курантов…
В одну такую новогоднюю ночь мне было не до пожеланий… Так как именно 31 декабря у меня вдруг заныл зуб. И я решила успеть его вылечить в заводском стоматологическом кабинете, придя перед самым его закрытием. Врач, естественно, торопилась домой, чтобы готовить новогодний ужин. Натолкала мне в зуб мышьяка и отправила восвояси, даже не предупредив, что его нужно убрать, если будет сильно болеть. Родители мои ушли с Ромой к родственникам, бабушка куда-то тоже, видимо, к своим, а я осталась дома смотреть телевизор. Но по мере того, как приближалось время традиционного «Голубого огонька», у меня нарастала зубная боль! Поднялась температура, зашкаливая за 40 градусов! Пришлось ещё сутки или двое терпеть издержки такого «лечения», так как в праздничные дни врачи не работали… После праздника я уже была под собственным «наркозом», и в другой поликлинике (туда я уже идти боялась!) мы с мамой умоляли врача удалить этот злосчастный зуб. Вскоре я вновь ожила и стала радоваться жизни.
Когда новогодние праздники заканчивались, после зимних каникул, мы убирали ёлку, (а чаще – сосну), из дома. Мне очень нравилось снимать с неё ёлочные украшения, игрушки. Я внимательно их рассматривала, любовалась, считала, сколько одинаковых игрушек, и записывала это в тетрадку. Много было различных стеклянных шаров, сосулек, домиков, бус. Оригинальными были в нашем доме – мальчик «Новый год-59» и очень большие, ярко раскрашенные, стеклянные часы со стрелками у цифры «12». А ещё были игрушки из прессованной разноцветной (раскрашенной) ваты – снеговики, домики, разные фрукты и ягоды.
К этим новогодним впечатлениям детства хочется ещё добавить, что в советское время родители всегда приносили своим детям из организаций, в которых работали, профсоюзные подарки. И мы их с нетерпением ждали. В прозрачных кульках были конфеты разных сортов, шоколадки и мандарины. Для нас, сибирских ребятишек, мандарины были большой редкостью (их тогда привозили из Москвы или Ленинграда). И мандариновый запах ассоциировался именно с Новым годом вместе с запахом хвои от лесной ёлки или сосны (искусственных в те времена я не помню).
Люди с золотым сердцем
Мне хочется после неудачного похода к стоматологу перед Новым годом рассказать и о тех медиках, которые были для всех нас олицетворением этой прекрасной профессии. Врачей в Калачинске в те годы было не так много, и все они были на виду. Некоторых знали почти все калачинцы. Это были врачи от Бога.
Работала в Калачинской райбольнице замечательная красивая пара – Филатовы Александра Тарасовна и Георгий Васильевич. Они познакомились в Омском мединституте и потом много лет лечили своих земляков. Очень хорошие были люди и замечательные специалисты.
У Георгия Васильевича был студенческий друг Картавцев Леонид Тихонович. Они вместе учились на санитарном факультете Омского мединститута. Леонид Тихонович был инфекционистом. Он не только вылечил, но и спас многих людей в Калачинске, среди которых были и дети. Жена его, Картавцева Валентина Арсентьевна, тоже была врачом. Работала бактериологом в Калачинской санэпидемстанции.
Георгия Васильевича Филатова все помнят, как прекрасного рентгенолога (он прошёл переквалификацию), очень любящего свою работу: до конца своих дней он был предан ей. Работал Георгий Васильевич и в поликлинике, и в стационаре Калачинской райбольницы.
Александру Тарасовну Филатову – педиатра, обожали не только дети, но и их родители. Это была очень добрая, красивая и обаятельная женщина с лучезарной улыбкой. Неравнодушная, всегда переживающая за каждого своего маленького пациента. Она запомнилась многим, как замечательный доктор и светлый жизнерадостный человек. Даже голос её многие помнят спустя десятилетия…
У этой пары врачей росла замечательная дочка Ирина. И она вспоминает своих родителей, как очень преданных своей профессии. Они и дома часто обсуждали здоровье своих пациентов, особенно тяжёлые случаи и давали советы друг другу, как лучше помочь людям.
Ещё одним педиатром, которая всю жизнь работала вместе с Александрой Тарасовной Филатовой, была Данилова Нина Петровна. С ней они тоже дружили с институтской скамьи и жили когда-то в одной комнате студенческого общежития, а потом всю свою трудовую жизнь прошли рядом. Нина Петровна всегда была спокойной и уравновешенной, готовой прийти на помощь в любой болезни ребёнка.
Известным в Калачинске был и муж моей первой учительницы – Карбин Александр Степанович, дерматолог. О нём наша Клавдия Ивановна всегда рассказывала своим ученикам с уважением. И искренне считала, что лучшие профессии на Земле – Учитель и Врач.
Уважаемыми врачами были и чета Любчик (родители моего одноклассника Саши Любчика). Его папа, Сергей Николаевич, был рентгенологом, а мама – фтизиатром. По их стопам пошли потом и сыновья, поступив учиться после школы в Омский медицинский институт. Евдокия Карповна Любчик лечила всю нашу семью (я во младенчестве болела несколько раз воспалением лёгких, а бабушка с мамой – туберкулёзом).
Замечательной медсестрой была Вера Николаевна Орлянская – мама моей школьной подруги Люды Орлянской. Очень красивая, высокая, всегда приветливая, она рано потеряла мужа и стала вдовой, вырастив одна троих детей. Вера Николаевна всегда была спокойной, улыбающейся, доброжелательной.
Это было золотое время, когда медработники в нашей стране лечили своих пациентов бескорыстно – бесплатно, и работали, в основном, по своему высокому призванию. А зарплату и отдых в санаториях им обеспечивало государство. И люди их бесконечно уважали за труд, терпение и доброе отношение к ним. Многих врачей и медсестёр наши калачинцы вспоминают с большой благодарностью и помнят всю свою жизнь.
Встречи с артистами
В клубе мехзавода и Доме культуры показывали не только фильмы, но и концерты, спектакли приезжих артистов (чаще – из Омска). И мы всей семьёй любили ходить на них. Частенько в Калачинск приезжал выступать Омский русский народный хор, где очень хорошо пели солисты – запевалы Леонид Шароха и Владимир Мартынов. Зажигательно исполняли артисты танцевальной группы сибирские танцы с Медведем, или под песню о сибирских пельменях. Балетмейстером хора был Яков Коломейский, но танцы ставили и московские балетмейстеры – Татьяна Устинова, Надежда Надеждина и другие.
Я помню, как в нашей средней школе №1 в большом фойе, которое являлось одновременно и актовым залом со сценой, выступал целый симфонический оркестр Омской областной филармонии. Нас, учеников, специально снимали с уроков, чтобы мы слушали классическую музыку вместе со своими учителями.
Приезжали к нам в Калачинск и артисты со спектаклями ТЮЗа, драматического и кукольного театров. Иногда в организациях устраивали семейные выезды на автобусе в театры и цирк города Омска. А в Омский драмтеатр летом часто приезжал московский театр имени Вахтангова, который когда-то был эвакуирован в Омск в годы Великой Отечественной войны. Самым любимым артистом у зрителей-сибиряков был наш земляк из Тары – всем известный в СССР Михаил Ульянов.
И сами – артисты!
Любили и дети, и взрослые ходить на смотры художественной самодеятельности школьников города. В школы взрослые ходили посмотреть на своих талантливых детей, а в ДК – на лучшие номера, которые отбирались на заключительный концерт. На этих смотрах малыши общались со старшеклассниками, узнавали друг друга, было очень интересно.
В нашей средней школе№1 был огромный хор учеников. Репетиции с нами проводил сам директор – Михаил Антонович Фурманчук. И казалось, что у нас вся школа пела!
С полным аншлагом проходили в Доме культуры отчётные концерты городского Дома пионеров, где в 1964 году появился вокально-хореографический ансамбль «Юность» под руководством Раисы Тимофеевны и Валентина Анатольевича Ульяновых. Более ста школьников выступали с разными танцами: классическими, народными, бальными. Концерты были посвящены какой-нибудь одной теме, с интересной режиссурой. Иногда устраивались целые хореографические спектакли по русским народным сказкам. И я была одной из «артисток» этого замечательного коллектива. Мои родители и баба Пана очень радовались за меня, когда приходили смотреть эти выступления, радуясь моим творческим успехам. У бабушки часто на глазах были слёзы: это было для них, людей, переживших войну, неслыханным счастьем – смотреть на красивых и счастливых своих внуков. Дома мама и бабушка помогали мне шить костюмы (Раиса Тимофеевна сама их раскраивала и придумывала), пришивать к ним блёстки. Для всех детей, участников «Юности», это было что-то необыкновенное, почти сказочное – ходить на занятия к нашей учительнице танцев Раисе Тимофеевне, которая всем казалась волшебной феей. Во многом ей помогал и муж – Валентин Анатольевич. Он учил танцевать мальчиков, показывал им мужские движения. Занимался световым освещением во время спектаклей. Иногда они с Раисой Тимофеевной сами танцевали в паре на концертах. Совсем ещё молоденькими они исполняли танец «Полька-шутка», в котором у них были костюмы сшиты так, что как бы они ни повернулись, казалось, что они танцуют лицом к зрителям: сзади на голове были надеты маски. Фотография с этим танцем была напечатана в какой-то газете: «Сибиряк» или «Омской правде». Запомнился мне и татарский танец в их исполнении.
Глава 5. Начало семидесятых
Жизнь большого семейства
И вновь мне хочется вернуться к своим семейным воспоминаниям. Отец мой всю жизнь любил технику – мотоцикл, машины. У него на работе были разные машины: сначала он работал на грузовых, потом ездил на легковых. А дома у нас стоял в гараже чёрный мотоцикл с коляской. Он часто с ним возился, а Роман бегал рядом и смотрел, как он «копается в железках». И мы частенько, надев мотоциклетные шлемы, ездили с ним в лес, на речку. Весной собирали в лесу подснежники. Эти цветы я очень любила, так как они всегда напоминали мой день рождения. И когда мне исполнилось 16 лет, то отец съездил 5 мая в лес и привёз целую охапку этих нежно-бело-жёлтых цветов.
Весной же большая семья Вервейко выезжала в поле: дедушка с бабушкой, семьи дяди Бори, Шананиных и наша. Садили на общем поле картошку. Обычно ехали на автобусе, который дядя Боря брал на работе в Омске. А осенью все вместе с детьми ехали в поле копать урожай. Разжигали костёр на полянке у леса, пекли в нём картошку. Собирали в близлежащих колках грибы. Все вместе фотографировались, придумывая весёлые кадры.
Летом мы с мамой, братом и отцом ездили всей семьёй в лес за ягодой и грибами. Любили побыть на природе и полюбоваться её красотами. Я ещё тогда не видела других мест, и мне казалось, что у нас в Омской области самая красивая природа. Но, даже побывав и в более красочных местах, родная природа осталась в душе, как что-то неповторимое, своё, родное и близкое. Купались на речке Омке и в Омске – на Иртыше, загорая на берегу. А вот к озеру Калач ходили редко, и чаще – зимой, со сверстниками: любили там кататься с гор на санках или лыжах. И в этот момент мне вспоминались стихи Пушкина: «Под голубыми небесами,великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит…» Так именно всё там и было в ясный тихий солнечный зимний день наших январских каникул.
В семье Вервейко обычно было многолюдно после праздничных демонстраций на 1 Мая и 7 Ноября, когда дома по радио и на улицах по большому репродуктору с утра играла маршевая музыка, все шли радостные: взрослые – с транспарантами, а дети – с шарами и зелёными весенними веточками с белыми бумажными цветами на них. Мимо трибун шли под музыку оркестра в колонне школы или своей организации на работе, а руководители города и района выкрикивали в микрофон праздничные призывы и лозунги.
Дети и внуки, живущие в Калачинске или приехавшие в гости на праздник, собирались в родительском доме за большим столом, шутили, что-нибудь вспоминали из своей жизни. И нам, внукам, было интересно и весело.
Многие дети большой семьи Вервейко в это время разъехались из Калачинска. Старшие Ольга и Нинель жили на Кубани – в Славянске-на-Кубани и Темрюке, Борис и Надежда – в Омске, Геннадий в Кемеровской области, Валентина уехала на комсомольскую стройку в Красноярский край. И только семьи Анатолия и Зинаиды жили в Калачинске.
Зинаида Антоновна Шананина, как я уже говорила, работала учителем истории в средней школе №4, её муж Геннадий Кириллович преподавал в спортивной школе. Жили они в многоквартирном доме у горсада. В семье Шананиных росли сын Вадик и дочь Танечка.
Часто у нас жил на каникулах мой двоюродный брат Женя Вервейко. И он был в нашем дворе «своим парнем». Мы с ним всегда вместе играли, иногда – дрались. А наша баба Пана ездила по просьбе его родителей к ним жить в Омск, так как некому было нянчиться с его младшим братом Вовочкой. Она была добрая, безотказная. Всегда всем старалась помочь. Ей там очень нравилось жить в благоустроенной квартире, и она мечтала, чтобы наша семья получила такую же. А вообще-то Прасковья Андреевна всю жизнь прожила одна с дочерью, привыкла быть хозяйкой, и хотела жить отдельно. Она очень любила порядок и чистоту, а в нашей семье из пяти человек всё это сохранять идеально не получалось.
Иногда я тоже ездила на каникулах в Омск, в гости к дяде Боре и тёте Лиде. Они жили на улице Самарской, в Кировском районе, недалеко от реки Иртыш. Мы часто летом там купались или рыбачили, а зимой катались с гор, которыми служили заснеженные берега реки.
Когда моя тётя Валя ещё училась в автодорожном институте в Омске и была студенткой, живя в общежитии, она однажды на летней сессии брала меня к себе. Мне было интересно находиться среди студентов, смотреть на их общежитскую жизнь, ходить с ними перекусывать в кафе или столовые. Конечно, студенты жили весело и очень любили Омск, заражая этой любовью и меня. Позже я была в гостях в Омске и у своей младшей тёти – Нади, и мы с ней сфотографировались в фотоателье вдвоём на память о моём посещении Омска. В тот раз мне впервые пришлось одной столкнуться с цыганками в парке, когда Надежда меня отправила в магазин. Они меня долго «обрабатывали» и чуть не выманили все имеющиеся при мне деньги. И потом моя молодая тётушка «учила меня жизни»: как нужно вести себя в большом городе на улицах – мало кому доверять (ведь в больших городах уже были совсем не такие отношения между людьми, чем в маленьких, таких, как Калачинск).
Поездка в Красноярский край
После окончания института тётя Валя уехала работать на комсомольскую стройку. И вот, летом 1971 года, мы всей семьёй ездили в Красноярский край – к Прокофьевым, где жили сестра отца Валентина с мужем Василием (строители Саяно-Шушенской ГЭС). Там было несколько посёлков для строителей ГЭС. Помню – Черёмушки, Означенное, они жили – в Майна. Сначала мы с тётей Валей поехали вдвоём на поезде в город Абакан с её маленькими детьми – Наташей и Ваней. (Я помогала ей водиться). Из Абакана ехали на автобусе до их посёлка. Днём я иногда ходила загорать на пороги (они были похожи на островки) Енисея, который протекал не так далеко от их двухэтажного деревянного многоквартирного дома. Купаться в реке было боязливо: вода в ней была почти ледяная, течение было быстрое. Вдали были видны Саянские горы. Мне нравилась таёжная природа этих мест, её суровая красота. Местные жители, с которыми я знакомилась (особенно – бабушки) рассказывали, что в посёлке было много ссыльных людей, кого-то отправляли в эти места ещё до революции, в царские времена, а кого-то – в сталинские. Люди занимались охотой, рыбной ловлей. Почти у каждого частного добротного деревянного дома на берегу Енисея стояли лодки, чаще – моторные.
В доме моих родственников царил молодой комсомольский задор. Их друзья, которые работали на комсомольской стройке, часто к ним приходили и приносили то грибы, то ягоды. У Прокофьевых были малыши-погодки, поэтому молодые строители понимали, что им нелегко справляться с ними и некогда ходить в лес. А однажды мы с дядей Васей и отцом (когда родители приехали за мной) ходили в лес на гору и собирали там грибы. Было очень интересно и необычно в таком лесу, совсем не так, как в наших лесостепных колках. Впервые мне пришлось подняться на гору.
До декретного отпуска Валентина работала мастером участка, и однажды её большой красивый портрет с улыбкой, в телогрейке и шапке-ушанке, был напечатан на первой странице газеты «Правда». Вся наша многочисленная родня, конечно, очень гордилась этим событием. Позже вышла книга «Вечное стремление», где Юрий Скворцов написал о ней очерк «И вечный бой», назвав её хозяйкой котлована. И хоть она была скромной, часто заливалась краской от слов мужчин, но умела ими руководить, пользуясь авторитетом в коллективе за свои знания и умение общаться с людьми. Также в книге была помещена фотография Вали Вервейко, похожая на газетную. Вскоре Валентине стали присылать письма со всего Советского Союза, и даже – зарубежья. Иногда она доставала чемодан с ними, и мы начинали читать самые интересные. Писали люди разного возраста. Один пенсионер в каждом письме присылал стихи про Валю и её маленьких детишек. Но чаще писали молодые парни: из армии и мест заключения. Предлагали переписку или сразу же звали замуж. Она многим писала ответы (чтобы особенно не надеялись: она была уже замужем) и получала от них вторичные письма и поздравления. В одной из книг о Красноярском крае и строительстве этой ГЭС была помещена и фотография мужа Валентины – Василия Прокофьева, за работой геодезиста.
Когда приехали мои родители с братом Ромой-дошкольником, то мы ездили с ними на стройку Саяно-Шушенской ГЭС. Поразила мощь этого строительства, огромные машины (только колесо грузовика было в рост человека!). А на скалах огромными буквами красовалась белая надпись: «Мечте Ильича сбыться!» Съездили мы и на экскурсию в Шушенское. Увидели целую улицу того села, где жили когда-то молодожёны Ульяновы. Там был мемориальный комплекс, сохранивший быт 19-го века. Заезжали мимоходом и на родину моего отца – в город Минусинск. Он славился своим старинным музеем. Во дворах домов было много яблонь и других садовых деревьев. Правда, городок показался пыльным, сереньким: может, там в то лето долго не было дождей?
Проездом в Новосибирске
На обратной дороге мы заехали в Новосибирск – к дяде Вите Безродных, двоюродному брату отца. Их семья жила где-то в районе магазина «Малахитовая шкатулка». Вокруг был сосновый бор, изредка прыгали белки. Они снимали квартиру с высокими потолками, а в коридоре стояла какая-то огромная холодильная установка. Жену Виктора звали Галиной, она работала в библиотеке (а училась она раньше в Омске вместе с тётей Зиной в пединституте на историко-филологическом факультете). Позже, в 1973 году, когда я была абитуриенткой НИИЖТа, то немного жила в их семье в новой квартире на улице Дуси Ковальчук. Они тогда воспитывали двух маленьких сыновей – Виталика и Алёшу. Баба Паша (мама Виктора) помогала водиться, а летом часто жила на даче, за городом.
В Новосибирске в фотоателье делали обычно фотографии с коричневым оттенком, очень качественные. И мы всей семьёй сфотографировались.
«Фотоателье» во дворе
Вернувшись домой, я сама решила заняться фотографированием. Во втором доме нашего двора, в первом подъезде на первом этаже, жил наш дворовый фотограф – дядя Паша. Он и давал мне «первые уроки» по фотоделу. Иногда он фотографировал во дворе своих соседей, и, благодаря ему, пополнялись наши семейные фотоальбомы. (Причём денег он за это ни с кого не брал). И первое время мы с девчонками частенько просили у него фотоувеличитель на ночь в свою квартиру, чтобы печатать свои первые снимки, которые, конечно, не всегда получались (сейчас я даже удивляюсь: как же он не боялся нам его давать, ведь мы могли невзначай что-нибудь в фотоувеличителе испортить?). Особенно сложно было глянцевать фотографии: они прилипали к стеклу и иногда «намертво» оставались на нём. Но мы радовались каждому удачному кадру, и было очень интересно смотреть, как постепенно проявлялись на мокрой фотобумаге очертания изображений при красном свете фонаря. Позже отец купил мне портативный увеличитель, который складывался в дипломат. И я стала на нём печатать фотки.