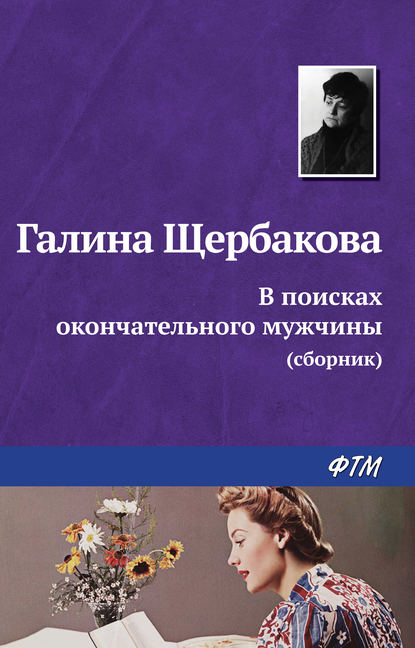По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
В поисках окончательного мужчины (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
То было время осенних посылов на овощные базы. В тот раз отдирали верхний гнилой капустный лист. Кочаны хряпали в руках, осклизлые, вонючие, а потом вдруг раз – делались беленькими, крепенькими, и возникало даже удовольствие, вроде ты сам рождал капусту. Правда, сплошь и рядом случалось, что чистенькие бурты, не востребованные жизнью, снова начинали чернеть, мокнуть и вонять, и тогда приходили новые люди и снова обдирали кочан, и бывало, еще что-то оставалось на кочерыжке для следующего захода. Это называлось «всенародной помощью в решении продовольственной программы».
А однажды по зелено-черной жиже прошел Федор – «немецкая морда». Он был в высоких резиновых сапогах под самое-самое то место, и это выглядело классно, несмотря, так сказать, на окружающую действительность. При небольшом усилии можно было вообразить, что носитель высоких сапог не инженер-оборонщик на поприще социалистического добывания продуктов, а некий рыбак-поморец, идущий к своему баркасу там или шлюпу, в котором серебряно выгибает спину красавица рыба для красавицы жены. Белое море, белая рыба и белое тело женщины. Петров-Водкин. Альбинос.
Сапоги остановились рядышком. Невозможно было не поднять голову на эту картину. То ли потому, что у нее случилась острая эмоциональная реакция на резиновые отвороты, которые существовали выше нее, сидящей на овощной таре типа ящика, но сразу вспомнилось то чувство, когда она остро хотела удариться о мужскую грудь… Опять же и теперь ноги Федора вызывали совсем не духовные желания. Что неудивительно. Ведь в сапогах шел не любимый писатель Ольги Юрий Трифонов, которого она только что переплела, вырвав из «Нового мира». Шел бы Трифонов – у нее случилось бы смятение в голове. А шел Федор – смятение было другого рода. Поэтому хамство как способ защиты от себя самой было уже за зубами и возбуждало язык, но нельзя же в конце концов бездарно повторять самоё себя?
– Привет! – сказала она обреченно.
– Ну и слава Богу! – ответил Федор. – А то я иду и думаю, как ты меня обзовешь в этот раз.
Он вырыл из листьев еще один грязный ящик и осторожно присел на него.
– Развалится или нет? – спросил он.
– Сижу… ничего, – ответила Ольга.
Федор по-хозяйски общупал ее глазом. Скукоженная девка в «базной одежде». Так он должен был подумать, так он и подумал, а Ольга, как она потом сказала, «проинтуичила его впечатление».
– Ох, как я разозлилась! – говорила она. – Он был одет классно, а я черт-те в чем. В маминых, считай, военных обносках. А у нас бабы специально для базы купили в детском мире яркие ветровочки из болоньи. Там же мужиков было навалом, а главное – из очень приличных институтов. Там были интеллигентские сливки… Но у меня даже на детский товар тогда лишних денег не было.
Федор рассказал, что два года как женат. Жена однокурсница, из Уфы.
– Можешь смеяться, – сказал он. – Она башкирская морда.
Значит, он действительно помнил тот случай. Злопамятный.
– Восточная красотка, – с нежностью добавил он, – из выточенных по кости. Отец у нее большой босс, так что у нас хорошая квартира, а моя мама живет там же, по месту нашего с тобой рождения.
– Дети есть? – спросила Ольга.
– Будут, – ответил Федор.
– В смысле жена беременная? – уточнила Ольга.
– В смысле хотим этого, – засмеялся Федор.
– Рада за тебя, – уныло ответила Ольга и быстро добавила: – Я не замужем, не беременная, живу с мамой на старом месте.
– Почему? – печально спросил Федор.
– Почему на старом месте?
– Почему такая красотка не замужем? Куда смотрят мужики-идиоты?
Что-то у нее в душе развязалось или отомкнулось, но ей стало как-то легко и спокойно, и она посмотрела на Федора прямо и увидела его глаза, большие, серые, сочувствующие, но не оскорбилась чужой жалостью, а приняла ее как дружбу, как протянутую руку и даже немножечко как любовь.
– Я сама определила все словом «немножечко». Могла другим, но у меня тогда была до пола заниженная самооценка.
В тот год был невиданный урожай капусты. Это было очередное бедствие для страны. Капуста гнила, разлагалась, овощные базы требовали ученых и студентов, хряпали в их руках кочаны, так и не узнав, для чего кучно наливались на природе. Именно в тот год капусты в стране хватило едва до марта, подтверждая главный тезис социализма: при нем все может быть бедствием, а урожай – особенно.
Их капустный роман был страстным, нежным и обреченным. Они были как спустившиеся с разных гор туземцы, которым надлежало вернуться точно ко времени к своим народам. Вопрос об «остаться» как бы и не возникал даже на уровне идеи. Просто случилось то самое «немножко».
Был некий казус. Ольга оказалась девственницей. В тот ее трагический случай она была прилично травмирована, и щедрые врачи заштопали ее, что называется, до основания, гордясь собой, но сказать Ольге об этом забыли или не посчитали нужным, а может, сказали маме, а она постеснялась передать Ольге – поди разберись сейчас с этой старой и уже никому не интересной пришитой девственностью.
Но Федора этот деликатный момент несколько обескуражил: за что его тогда таскали по милициям? К тому же Ольге как-никак двадцать четыре года, странновато все это, чтоб не сказать больше… С другой же стороны, у Федора возникло и некоторое чувство удовлетворения деятельностью первопроходца или кого там еще…
Ольга была смущена другим. В свое время она всерьез была заморочена мыслью, что ей придется когда-то перед кем-то объясняться. Это отравило ей всю раннюю юность, когда она думала о себе как о человеке порченом. Получается, зря морочила себе голову. Но, в общем, они потом с Федором обсмеяли эту историю, и он был и остался единственным мужчиной, которому она рассказала, как тогда все было… Из женщин была я.
Юрий Петрович
Классный парень был, классный!
Потом она подала, что находилась под впечатлением общественного мнения. Он был, так сказать, назначенным любимцем. Конечно, интересен первый вскрик по этому поводу, но поди вычлени его теперь из всего. Но еще до вступления в комсомол Ольга знала: в райкоме такой инструктор, что одна десятиклассница из-за него чуть не отравилась, выпила какую-то гадость, но, слава Богу, она оказалась слабее жизни. Потом, после всего, у Ольги было непреодолимое желание найти ту дуру и узнать, что с ней случилось на самом деле и отчего она пила некачественный уксус. Нашла. Дура работала в паспортном отделе, поэтому Ольга просто-напросто набрела на нее, когда пришла пора получать паспорт. Дура была накрашена так, что хотелось или отвернуться, или хотя бы прикрыть глаза, потому что возникало чувство сверхвпечатления. Это «сверх» почему-то сразу освободило Ольгу от желания что-то узнавать, выспрашивать. Что бы там ни было на самом деле с этой сверхдевицей, Ольге стало безразлично, скучно, ее состояние души не могло пересекаться с состоянием души крашеной. Не могло, и все. Ольга заполнила нужные бланки и ушла. Когда уже была в дверях, услышала: «А эта пионеруважатая еще работает?» – «Работает», – ответила Ольга. – «Вот сука».
Разве не повод для продолжения – или начала? – разговора! Ольга ведь теми же словами думала о вожатой! Но инерция отторжения, случившаяся с начала встречи, оказалась сильнее. Ольга потопталась у двери и ушла.
Надо начать с того, что на эту самую долбаную конференцию Ольга не должна была попасть по причине своего индифферентного отношения к общественной деятельности. Ей было не до нее, мама тогда была совсем плоха, и однажды Ольга вдруг ясно увидела, что мамы может не стать. Она тогда отодвинула локтем школьные дела и столбиком подсчитала, на что ей придется жить. Достраивалась однокомнатная кооперативная квартира «для нее». Подумалось, что надо будет от нее отказаться, вернуть сумасшедший пай – шестьсот рублей и разделить его на полтора года, чтоб закончить школу.
– Вот эти первые деньги столбиком, – рассказывала потом Ольга, – были моим первым экономическим образованием. Я не считала себя бедной как церковная мышь… Отнюдь, как сказал бы теперь сын Тимура. Но ощущение собственной жалкости откуда-то взялось. Не от возможного голодания, а от самого столбика арифметики.
Она была поглощена этим возможным будущим одиночеством и еще странным открытием: трудные случаи из жизни других ей не помогают. Несчастья других в прошлом и в настоящем, вот это «посмотри на них» ее не утешают. «Я открыла в себе эгоизм волка. И сказала: я одна себе друг, товарищ и брат. Ты же помнишь, как это висело на всех стенах: «Человек человеку…» А я, тогда еще маленькая дурочка, почувствовала: что-то тут не то… Какая-то излишность… Мы же народ с перебором…»
Так вот, она тогда была поглощена всем этим, а ее – звериную эгоистку – взяли и послали на конференцию. Было школьное собрание, чего-то там провозглашали, сидел в президиуме Юрий Петрович и щупал девчонок глазом, рядом с ним мелко суетилась вожатая. А когда все кончилось, Ольга ни с того ни с сего оказалась в списке делегатов. Почему-то этому обрадовалась мама, даже на ноги встала и купила в галантерее кружавчики.
Она хорошо помнит, как после конференции глашатаи скликали разные группы делегатов и все сбивались в цветастые кучки по интересам. Но у Ольги на этом празднике энтузиазма интереса не было. Она уже собиралась уходить, но хотела высмотреть Федора, когда он возник перед ней. Юрий Петрович.
– Ну как? – сказал он. – Ищешь своего друга?
Такое мнение было ей совсем ни к чему! Она Тедди сто лет не знала, какой он ей друг?
– Да вы что? – закричала она. – Мы ж из одной квартиры!
– У! – ответил Юрий Петрович. – У! Мы все из одной квартиры! Мы все одна большая семья! – И он взял ее за локоток и повел. Они шли мимо каких-то стендов и прислоненных к стене транспарантов, обвисших без натяжения руками и ветром, где-то в красном материале призывов и лозунгов мелькнуло лицо вожатой. Ольге показалось, что вожатая ее ненавидит. Стало почему-то еще обидней.
Юрий Петрович открыл дверь, на которой было написано «Штаб». Это была странная комната-сейф, зарешеченная и даже как бы с металлическими стенами. Замок за спиной щелкнул громко, а ключ еще какое-то время позванивал брелоком. Она слушала это «дзинь-блям-дан» – или как еще передать звук брелока в полутемной комнате по имени «Штаб»? – а чужая рука нырнула ей под платье, и тоненько, по уже давно надорванному шву безнадежно затрещала комбинация.
Полное отупление, полное…
В сущности, с его стороны совсем не требовалось рвать ее зубами. Это она поймет потом и возненавидит свою полную покорность. И всегда будет вспоминать лицо вожатой, мелькнувшее в красных тряпках. Почему она, видя, с кем шла Ольга, так подло оговорила Федора?
– Знаешь, – говорила через много лет Ольга, – в какой-то момент им стало мало комсомольцев-добровольцев… Реки вспять – это оттуда же… Ломать через колено… Хоть что… Хоть природу, хоть бабу.
Странно, но я не спрашивала ее, почему она тогда не заорала. Дело в том, что я знала почему. Я и в себе ощущала это: стыдную, идущую из потрохов покорность. Никто про меня это не скажет. Я для всех «крутое яйцо». Но я-то сама знаю! Я знаю, как умирает сопротивление, как оно сходит на нет, и в покорстве своем начинаешь жаждать только одного: тайности стыдного твоего покорства! Поэтому я буду последней, кто бросит в Ольгу камень, что она тогда не выдала Юрия Петровича. Она не выдала себя. И маньяк очень хорошо нарисовался в такой ситуации. На кого еще так легко свалить собственную трусость?
А Юрий Петрович все-таки однажды подзалетел. В том же «Штабе». Девчонка «устроила ему слезы с завыванием», на которое сбежались дружинники. Они стали молотить в дверь, Юрий Петрович вышел им навстречу и мрачно сказал, что «разбирается с тяжелым случаем». Но пленочка, так сказать, проявилась… Куда-то он потом делся, на девочку навесили психоз, родителям вручили что-то ценное по лотерее. Только во время перестройки вновь мелькнул светлый облик Юрия Петровича в сугубо патриотических колоннах, и Ольга, будучи абсолютно равнодушной ко всем и всяким политическим баталиям – «а пошли они все!», – сказала мне тогда: «Мне все равно, за кого… Но я точно знаю, против кого…»
Надо же случиться такой глупости, что собственный муж оказался идейным союзником Юрия Петровича.
– Ну как тебе это нравится? – спросила она. – Мне наплевать на политику, но жить я с ним не буду.