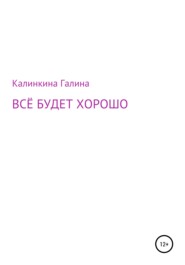По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Лист лавровый в пищу не употребляется…
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Казалось, и так жить можно.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 1920-й год
1 Неправильные вещи
Насытился тишиной и ликами, потянуло и лица увидеть.
Время снимать шкурку с гвоздя. «Ты даровал мне плоть и кости, дыхание и жизнь». Бог хочет от тебя чего-то. Чего?
Лишь отойдя от тягот дороги, мало-мальски быт устроив, выбрался-таки в город. Едва зашагал по слободке, встретил знакомца Аркашку Шмидта – сына сапожника. На углу паровой лито-типографии сапожники сбывали мыло, папиросы Лаферма «Фру-Фру», «Дюшес» и «Смычка», гуталин, стельки, шнурки. Рыжий Шмидт играл на губной гармошке, весело и придурковато зазывал на починку обувки, соперничая с армянином-будочником, торгующим неподалёку на базарной площади перед Горбатым мостком. Лавру вспомнилось, как лет шесть-семь назад на Святки случилась драка: двое на двое. Они с Костей Евсиковым возвращались с уроков из Набилковского пансиона в Мещанской слободе. К Аркашке тогда примкнул сотоварищ его по бараку Федька Хрящев – Гугнивый. «Бей гимназёров!» – гундосил Федька. А сестрёнка Федькина, на пару-тройку годиков младше брата, с криком «ерохвост, осади» влетела в их кучу малу, к удивлению всей четверки, взяв сторону длинноногого гимназиста – Лаврика. В той драке угомонились, когда обнаружили оторванный рукав от Тонькиного пальтишки. Кто оторвал – как узнать? Вину на себя взял Лантратов, а Федька и не противился, ему ещё не миновать трепки за прорехи на собственном кафтане. Тонька ревела щенком сивуча, во всю глотку: ей и досталось больно в свалке, и пальто разодрали. Под расстёгнутыми, плотной ткани, пальто у гимназистов – Кости и Лаврика – форменные мундиры с чёрными обшлагами и фиолетовыми воротниками остались абсолютно целыми, не тронутыми.
– Сквитаемся, барчук! – Федька сощурил узкие глазёнки, на безопасном расстоянии выставив мосластый кулак в сторону Лавра и Костика. – И ты схлопочешь, ваула.
На следующий день Улита Лахтина – кормилица – по наказу матери Лавра снесла Хрящевым в барак почти новую мерлушковую шубку, из какой вырос Лисёнок-корсак. И Тонька зиму щеголяла в голубовато-серой мерлушке. И вот тогда-то впервые поссорились два брата-молочника: Дар Лахтин и Лаврик. Дар не простил Лаврику соседкины слёзы. И себе не прощал, что не оказался в тот полдень на горке. И мамке Улите не прощал, уложившей его на время крепких святочных морозов в постель. Улита боялась обострения хищной болезни и девять дней пролежала сама рядом с Даром, не позволяя вставать. Лантратовы, хозяева, давали укреплённое питание заболевшему, выписывали докторов из больнички. В тот раз приступа с рецидивом не допустили. А Дарка всё рисовал девочку в шубке с оторванным рукавом.
За Федькой Гугнивым ходила слава предводителя шайки налётчиков по чужим садам. Коська Евс и Лаврик не раз заставали у себя в садах невесомых малолеток, рассевшихся на суках деревьев, словно воробьишки, и сотрясающих ветви со спелыми плодами. Коська при том горячился, обращаясь к мальцам: «Кокильяры! Господа корсары, уггощайтесь! Зачем же яблоню ттак ттрясти?». Пацанята из Федькиной ватаги шли к решетам и корзинам, на какие указывал Костик. А Федька гнусавил: «Стой, шибздики, в подачках не нуждаемся. Сами добудем». И оглушительно свистнув, разворачивал всю ватагу восвояси.
Теперь Лавр с Аркашкой издали переглянулись, не здороваясь. Сапожник весело подмигнул: бороду отпустил, барчук? Аркашка раздался в плечах, отрастил рыжий чуб до бровей, но в росте сильно уступал Лавру. Разошлись чужими, как и прежде. Не те лица, не родные.
Первым делом непременно отыскать Евса, потом к Лахтиным – молочной матери и брату. Но в профессорском доме за Горбатым мостком окна оказались заколочены досками крест-накрест, на двери шляпным гвоздем прихвачен обрывок записки: переехали в Последний переулок. Не близко, однако. И, повернув обратно, едва не столкнулся с соседом Евсиковых – часовщиком, кажется, по фамилии Гравве. Отчество часовщика Лавр напрочь забыл, едва ли и знал, вспомнилась прибаутка: Вера, Надежда, Любовь и отец их Лев – у старика-вдовца росли три дочери-погодки. За время, что не виделись, часовщик сильно сдал, не узнать: высох до бушмена, краснел неожиданно обветренным лицом, как пейзан на уборочной, и пересекал двор неуверенной, «заячьей» походкой, идя нервно, петляя, будто следы путая. Пиджак цвета хаки болтался на спине колесом, как чужой, взятый на вырост. Гравве, напротив, легко узнал в высоком молодом человеке, друга соседа Костика, удивлялся росту, неожиданному появлению и отсоветовал искать Евсиковых, убегли они из города то ли в Туретчину, то ли в Эфиопию. А на расспросы отвечал почти шёпотом и озираясь: «Последний переулок… Поймите же, Последний! Безумные правят городом! Вот такой пендельфедер. Зачем Вы вернулись? Тут безоглядно жить нельзя. Подлый мир, подлый. Не вижу нигде, не вижу… Где Он? Куда отлучился? Не могу молиться Ему!». Толком не объяснившись, торопясь, Гравве пустился наискосок к парадной.
Часовщик, бывший сосед Евса – призрак прошлой жизни, малознакомый странный человек – теперь будто родной и нужный, потому как узнаёт Лавра в лицо. Значит, Лавр в своем городе, значит, и взаправду снова в своем городе. Значит, нет одиночества. Котька, Котька… Куда ты подевался, Чепуха-на-чепухе? Костино детское прозвище всплыло одновременно с историей про египетские мумии. Лавр заулыбался, продолжая бесцельно топтаться во дворе Евсиковых.
Тогда, не дождавшись Пасхальных каникул, сбежали с занятий в Музей изящных искусств. На спор решили проверить выдержку и стойкость: просидеть ночь в Египетском зале. Как выберутся обратно, не сговорились, главное, доказать – могут. Потолочная богиня Нут распростерлась над ними. И пока Котя запрокидывая голову, определял навскидку размах птичьих крыльев, Лаврик сумел забраться в укрытие между колонной с папирусом и саркофагом жреца. Но замечтавшийся друг его растерялся под пристальным взглядом служителя в дверях, покраснел, смущением и неуместной суетой выдавая себя. Музейщик заподозрил неладное. После короткого допроса Котька, физиологически не переносивший ложь, был раскрыт, насильно выдворен из Египетского зала в зал Древнего Востока и дальше прочь, прочь. Осмотрев почти всю экспозицию, Костик застыл перед мраморным Давидом. И более ни о чем не помнил. Но восхищали его вовсе не мощь фигуры или искусство воплощения библейского сюжета. Сына профессора медицины заинтересовала анатомическая непропорциональность некоторых частей тела. Правая рука изваяния казалась намеренно увеличенной, да и иудейский нос выделялся размерами. Перед самым закрытием музея Костик очнулся, вспомнил о товарище и сам поднял тревогу. Он испугался оставлять Лаврика в темном жутковато-таинственном зале среди спящих с открытыми глазами мумий. Ему казалось невозможным вернуться домой и преспокойно лечь в постель. Надо знать Котю, чтобы обидеться на него за срыв эксперимента, за невыполнение договоренностей. Если Котя кого-то жалел, он жалел действенно и непременно собирался утирать слезы тому, кто плакал. По тревоге, им поднятой, служители произвели розыск и вызволили поколебавшегося в отваге Лаврика. На следующий день музей уведомил о проступке руководство Набилковского пансиона, а пансион – родственников испытателей. Но к удивлению мальчиков, дело обошлось довольно сносно: без особых издёвок однокашников и разносов дома. А директор пансиона Иван Львович так и вовсе поддержал своих подопечных за «побуждение к изящному досугу». Котька долго поминал провал, но винил не себя, а служителя: «Всё кунстхисторикер ввиноват».
Чепуха-на-чепухе, чепуха-на-чепухе…друг славный, славный Евс.
Если теперь незачем идти в Последний переулок и Евс действительно отбыл в Туретчину или Эфиопию, то айда смотреть город. Пройти тем маршрутом, какой не раз с отцом выбирали, найти Москву прежней, довоенной, допереворотной.
Горбатым мостком перебрался к базару. Рыночный гомон гнал дальше и даже запахи не остановили. Стоят последние золотые и солнечные дни, где город жив солнцем. Подался на Ерденевскую слободу и оттуда к путям Виндавского вокзала. Запах горячего железа тотчас напомнил страшный путь домой, кровь и смерти напомнил. Доносились переборы гармошки и сухой, надтреснутый голос, оравший частушку:
Ляпота, ляпота
Ей, гуляй, гопота
Жизня распрекрасная
Покуда Москва красная
Обошел стороною платформу, вагоны под паром. На вокзал заглядывать ни к чему, хоть и кричит паровоз призывно. Выбрался на Вторую Мещанскую, а поперек неё, дворами, полисадами, где и огородишком, сразу на Третью. Прежде далеко вдоль обходить приходилось. Теперь заборы – роскошь. Уже другой вид у улицы, не парадный, а обнажающий, стыдный, как взгляд с тылу, из-под подолу, с черного хода. Всюду задние лестницы, сарайчики, проходные арки и тупички. Сотворили из городских улиц проселочные дороги со сторожками в саду. Из форточек трубы самоварные торчат и тут, и там, новые пролетарские печки. А флагов кумачовых понатыкано больше, чем труб печных. В воздухе не яблочный дух, а зловоние, ядовитые испарения нечистот. Не чищены мостовые. Ступени лестниц и крылечки заплеваны. Тут и хорошие дожди не справятся.
У доходного дома Солодовникова остановился. Дом-каре удивлял непохожестью на дома-соседи тем, что с угла на две улицы спускался, и лифтами – делом в Москве не частым. Здесь ведь Николай Николаич Колчин проживал, покойного отца знакомый. Но сколько окон сейчас безразлично глазело на Лавра, не узнать, где квартира инженера.
– Чего выглядаешь, сынок? – старуха с бельевой корзиной тоже залюбовалась оконным рядом.
– Знакомец тут прежде жил…до Переворота.
– Ты что, сынок…приезжий, никак?
– Здешний.
– Да разве нынче можно так-то?! Молчи. А знакомца тваво не найти таперича. Всех перетусовали. Человеков много, людей мало. Встренешь знакомца, а тот норовить на другую сторону перейти, глаза долу. Здоровкаться перестали, даже соседския. А как заговорить, так всё об одном: как моетесь, чаво ядите, чем топите. А ране-то и про фасон, и про засол, и про звон колокольный…
– Помочь?
– Не. Отдышусь малость. Таперича на вулице и не присесть. На растопку скамьи-то ушли. И заборы. Утром выйдешь во двор, а двора и нет. И дворники испарились. Одне комиссары остались. Када тольки повыведутся…
– Скоро. Ну, спаси Христос!
– Во славу Божию!
Разошлись.
Из окна первого этажа на парнишку в шотландском свитере и бабку с бельевой корзиной взглянул мужчина, притулившийся виском к перемычке деревянной рамы. Что-то уловимо знакомым показалось ему в фигуре паренька, задравшего голову на верхние этажи. Но мужчина не задержался взглядом на тех двоих, перенесся на раздумья о водомерах насосной станции. Из-за соседнего дома, мрачно нависая над крышею, вылезали верхушки геппнеровских башен – Крестовских водонапорок. Сегодня он не мог смотреть на их помпейские зубцы. «Страшно ходить по пустому дому, который когда-то был счастливым. И общее состояние существования невозможно. Застрелиться, что ли? И одним махом покончить…». В глубине квартиры нервно забился дверной звонок, противно со стены заскрежетал зуммер телефонного аппарата, и в унисон им загрохотали кулаком во входные двери. Страх всегда на поверхности, даже когда и вины за собой не знаешь. По нынешней людоедской жизни любой внешний повод есть предлог попрощаться. Но тут и проститься не с кем. Хозяин холостяцкой квартиры задумчиво повременил и всё же пошел отворять.
На Третьей Мещанской, не доходя Филипповского храма, Лавр замедлил шаг. Здесь среди каменных трехэтажек с проходными арками приютилась деревянная усадебка одного артиста. Имя его Лавр позабыл, а вот пудельков тутошних, белых, помнил. Посмотреть на них съезжались нарочно с разных слобод города. И Улита-кормилица водила маленьких Лаврика и Дара посмотреть Чучо и Мучачу. Пудельки выступали как обученные цирковые собачки. Случайные прохожие и зрители из приезжих вызывали на бис. Радость, радость. Где ты есть, радость? Что ты есть, радость? Теперь ворота усадьбы плотно затворены, ни дымка, ни звука. И яблоки нетронутыми на ветках висят. Десятки глаз, должно быть, на них смотрят, ждут, как поспеют, или как стемнеет.
Издалека виден вытянутый шпиль башни. И тепло сделалось: жива Сухарева. Вышел на площадь. Тут оживленнее. По мостовой в обе стороны катят автомобили и извозчики. Тащится понурый народ, все больше в картузах, бескозырках, кадеты без погон, дамы без шляп, мужики в ватниках не по погоде. Будто нарочно стараются придать себе вид попроще. Площадь переходить не стал. Остановился напротив низенькой фигурки в кепи. Человек стоял у пустой трибуны спиной к «Троице в Листах», лицом к площади и пристально смотрел Лавру в лицо. Они встретились взглядами через пространство, пересекаемое проезжающими экипажами, долго всматривались. Первым не выдержал Лавр, отвел взгляд, отвернулся. У подножия Сухаревой под провисшим красным полотнищем завязалась толпа, но реденькая, не в пример прошлым скоплениям даже будних счастливых дней. Теперь никто не поднимался по крутому лестничному полотну, никто не спускался. И вся она – башня, словно сжалась, затаилась, притихла, старалась не выпячиваться своею имперской помпезностью среди малорослых зданьиц, людей в шинелях, в новой пролетарской хронике города. Да и ход часов башенных выдохся: встали на одиннадцать с четвертью.
Лавр перешел к странноприимному шереметьевскому дому. Здесь прежде Костин отец служил, профессор Евсиков. Ближние окна лазаретские горели желтым, болезненным светом. Когда гуляли на Сухаревой площади с отцом, папаша рассказывал маленькому Лаврику, как видел живого кита в Москве. Владелец морской выставки Эглит привёз такой аттракцион: кит с фонтаном. А город громилу эдакого не принимал. Лишь двор Шереметьевской больницы подошёл для представлений. Здесь возвели бассейн и запустили самого настоящего кита. Вся Москва на Сухаревку съезжалась поглазеть. А Лаврик всякий раз просил, проезжая площадь, «папаша, про кита расскажи». Посреди весёлого ужаса и приятные воспоминания город держит, не упускает напомнить: жила здесь радость прежде. Обернулся на низкорослого в кепи, всё глядит. Повернул обратно на Первую Мещанскую, ушел с площади. А в спину вперился тот, в кепи, что не мог сойти с постамента.
В чайной лавке Перлова на Первой Мещанской теперь советский цветочный магазин. На дверях табличка: «для совслужащих и коммунистов». С тумбы газеты трубят: беспроигрышная лотерея-аллегри! Билетик за сто тысяч рублей! Помоги голодающим! Помогите инвалидам! Газеты, крики глашатаев, афиши, плакаты, слухи… А правды нет.
Сердце билось навстречу милому одному местечку. И как болезненно люди бывают привязаны к месту. Надеялся и это место застать в живых, как Сухареву башню. Пусть там всё будет прежним. «Алавар! Алавар!». И самому смешно от детских своих грёз. Сколько раз с мамой и дедом гуляли по тропинкам Ботанического университетского сада – Аптекарского огорода, под петровскими пихтами и лиственницами, любовались пальмами и «английским садиком», следили за форелью и юрким лососем в имплювии. Дед неплохо разбирался в ботанике и, громко рассказывая маленькому Лаврику о Howea forsteriana – Ховея Фостера или о Pandanus reflexus – Панданус рефлексус, собирал вокруг себя кружок любопытствующих нянек и бонн с подопечными. Как Лавр тогда гордился дедом – высоким седоголовым стариком с молодцеватой выправкой, неизменно вызывавшим внимание гуляющей публики! Тут же вспомнилась бабушка – под стать деду – своему супругу: рослая и стройная, но совершенно иного склада характера. Не любила шумных обществ, не желала чужого интереса. А её собственного внимания хватало на каждую душу из домочадцев. Так и замерла в памяти, свечой, горящей к Богу; когда не вбежит Лаврик в её спальню, всё бабушка у иконостаса стоит: то одного отмаливает, то другого. Повертится Лаврушка у ног её, не посмеет, голоса подать и убежит прочь. Знает, бабушка непременно спросит, чего забегал, когда договорит с Богом.
А позже, гимназистами, и с Евсом в Аптекарский огород забегали. Котьку завораживали кактусовые плантации и заросли бромелиевых или живородящих папоротников. Он мог часами говорить о каких-то многоножках. Зато Лаврика увлекал «черепаховый» пруд, где можно обучиться гребле на веслах.
На подходе к месту поразило отсутствие старинных дубовых ворот.
Теперь дорогу преграждало подобие плетня из тощих жердей. С внешней стороны висело объявление «заперто», с внутренней стороны плетень подпёрли кривым дрыном. В глубине сада какие-то люди в мешковатых одеждах, кажется, мужчина и две женщины, перемещались по грунту на коленях, воровато оборачиваясь. Справа от них пустыми глазницами таращилась на Лавра пальмовая оранжерея, как будто ставшая в коньке ниже, чем прежде. Стекла из рам то ли выбиты, то ли растасканы, перекрытия и обрешетка выломаны; местами свисая, как вывернутый карман. От немого остова оранжереи почти до входа тянулся прямоугольник безводного имплювия, заляпанного сухими листьями, травой и сучьями.
Женщины, поднявшись, подхватили тяжелые кошёлки и, озираясь, скрылись за оранжереей. Мужчина перебрался на их место, не поднимаясь с колен, принялся копаться в земле и вдруг с силой швырнул пустым лукошком в акациевый частокол напротив. Потом уставился в небо. Так и не поднявшись с колен, стал утираться рукавом. Точно, молится или плачет. И чего тут делают эти псевдо-богомольцы?
Когда Лавр уходил, будто зажмурившись всем телом – чтобы не видеть разора, спину кололи дедовы упрёки «двести лет саду Петрову, двести лет. Разорители. Нехристи». У дома Брюсовых будто очнулся. Из окон полуподвального этажа неслась граммофонная музыка, и грудной женский смех смешался с излишне громкими голосами кавалеров. Есть что праздновать? Или забыться люди хотят? Но беззаботный смех показался неуместным оскорблением слуха и чувств, скулы свело, и оскомина противная завелась: что же делается с нами? Что же?
Возле усадьбы Баевых вдоль тротуара притулилась к стене кооперации чёрная гусеница очереди. Из глубины керосиновой лавки доносилась ругань, а на улице пережевывался мякиш вялого разговора: ждать завсегда тяжко.
– В деревнях резня.
– Землю не засеють.
– Заводы встали.
– На «железке» пути сбиты.
– У дитят ручки обглоданы.
– Зима в упор.