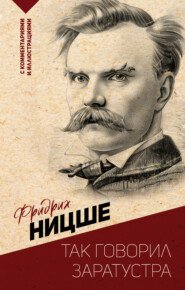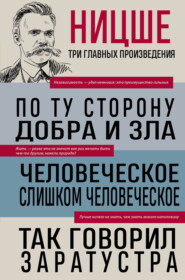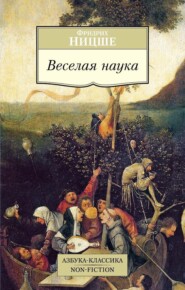По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Антихрист. Ecce Homo (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Антихрист. Ecce Homo (сборник)
Фридрих Вильгельм Ницше
В сборнике представлены два произведения Фридриха Ницше – «Антихрист» и «Ecce Homo» – последние, написанные им до того, как безумие окончательно поглотило его разум. «Антихрист» – скандальная книга, где Ницше ставит под вопрос сущность христианства, книга-протест против выбранного церковью пути. «Ecce Homo» – набор автобиографических заметок, написанных, по словам Ницше, за месяц.
Фридрих Ницше
Антихрист. Ecce Homo (сборник)
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2016
Антихрист. Проклятие христианству
Предисловие
Эта книга принадлежит немногим. Может быть, никто из этих немногих еще и не существует. Ими могут быть те, кто понимает моего Заратустру; как мог бы я смешаться с теми, у кого лишь сегодня открываются уши? Только послезавтра принадлежит мне. Иные люди родятся posthum.
Условия, при которых меня понимают и тогда уже понимают с необходимостью, – я знаю их слишком хорошо. Надо быть честным в интеллектуальных вещах до жестокости, чтобы только вынести мою серьезность, мою страсть. Надо иметь привычку жить на горах – видеть под собою жалкую болтовню современной политики и национального эгоизма. Надо сделаться равнодушным, никогда не спрашивать, приносит ли истина пользу или становится роком для личности… Пристрастие силы к вопросам, на которые сегодня ни у кого нет мужества; мужество к запретному; предназначение к лабиринту. Опыт из семи одиночеств. Новые уши для новой музыки. Новые глаза для самого дальнего. Новая совесть для истин, которые оставались до сих пор немыми. И воля к экономии высокого стиля: сплачивать свою силу, свое вдохновение. Уважение к себе; любовь к себе; безусловная свобода относительно себя…
Итак, только это – мои читатели, мои настоящие читатели, мои предопределенные читатели: что за дело до остального? Остальное – лишь человечество. Надо стать выше человечества силой, высотой души – презрением…
Фридрих Ницше
1
Обратимся к себе. Мы гипербореи – мы достаточно хорошо знаем, как далеко в стороне мы живем от других. «Ни землей, ни водой ты не найдешь пути к гипербореям» – так понимал нас еще Пиндар[1 - Пиндар. Десятая Пифийская песнь.]. По ту сторону севера, льда, смерти – наша жизнь, наше счастье. Мы открыли счастье, мы знаем путь, мы нашли выход из целых тысячелетий лабиринта. Кто же нашел его? – Неужели современный человек? – «Я не знаю, куда деваться; я всё, что не знает, куда деваться», – вздыхает современный человек. Этой современностью болели мы, мы болели ленивым миром, трусливым компромиссом, всей добродетельной нечистоплотностью современных Да и Нет. Эта терпимость, largeur[2 - Широта (фр.).] сердца, которая все «извиняет», потому что все «понимает», действует на нас как сирокко. Лучше жить среди льдов, чем под теплыми веяниями современных добродетелей. Мы были достаточно смелы, мы не щадили ни себя, ни других, но мы долго не знали, куда нам направить нашу смелость. Мы были мрачны, нас называли фаталистами. Нашим фатумом было: полнота, напряжение, накопление сил. Мы жаждали молний и дел, мы оставались вдали от счастья немощных, от «смирения». Грозовые тучи вокруг, мрак внутри нас: мы не имели пути; формула нашего счастья: одно Да, одно Нет, одна прямая линия, одна цель.
2
Что хорошо? – Все, что повышает в человеке чувство власти, волю к власти, самую власть.
Что дурно? – Все, что происходит из слабости.
Что есть счастье? – Чувство растущей власти, чувство преодолеваемого противодействия.
Не удовлетворенность, но стремление к власти, не мир вообще, но война, не добродетель, но полнота способностей (добродетель в стиле Ренессанс, virtu, добродетель, свободная от моралина).
Слабые и неудачники должны погибнуть: первое положение нашей любви к человеку. И им должно еще помочь в этом.
Что вреднее всякого порока? – Деятельное сострадание ко всем неудачникам и слабым – христианство.
3
Моя проблема не в том, как завершает собою человечество последовательный ряд сменяющихся существ (человек – это конец), но какой тип человека следует взрастить, какой тип желателен, как более ценный, более достойный жизни, будущности.
Этот более ценный тип уже существовал нередко, но лишь как счастливая случайность, как исключение, и никогда – как нечто преднамеренное. Наоборот, – его боялись более всего; до сих пор он внушал почти ужас, и из страха перед ним желали, взращивали и достигали человека противоположного типа: типа домашнего животного, стадного животного, больного животного – христианина.
4
Человечество не представляет собою развития к лучшему, или к сильнейшему, или к высшему, как в это до сих пор верят. «Прогресс» есть лишь современная идея, иначе говоря, фальшивая идея. Теперешний европеец по своей ценности глубоко ниже европейца эпохи Возрождения, поступательное развитие решительно не представляет собою какой-либо необходимости повышения, усиления.
Совсем в ином смысле, в единичных случаях на различных территориях земного шара и среди различных культур, удается проявление того, что фактически представляет собою высший тип, что по отношению к целому человечеству представляет род сверхчеловека. Такие счастливые случайности всегда бывали и всегда могут быть возможны. И при благоприятных обстоятельствах такими удачами могут быть целые поколения, племена, народы.
5
Не следует украшать и выряжать христианство: оно объявило смертельную войну этому высшему типу человека, оно отреклось от всех основных инстинктов этого типа; из этих инстинктов оно выцедило понятие зла, злого человека: сильный человек сделался негодным человеком, «отверженцем». Христианство взяло сторону всех слабых, униженных, не удачников, оно создало идеал из противоречия инстинктов поддержания сильной жизни; оно внесло порчу в самый разум духовно сильных натур, так как оно научило их чувствовать высшие духовные ценности как греховные, ведущие к заблуждению, как искушения. Вот пример, вызывающий глубочайшее сожаление: гибель Паскаля, который верил в то, что причиной гибели его разума был первородный грех, между тем как ею было лишь христианство.
6
Мучительное, страшное зрелище представилось мне: я отдернул завесу с испорченности человека. В моих устах это слово свободно по крайней мере от одного подозрения: будто бы оно заключает в себе моральное обвинение. Слово это – я желал бы подчеркнуть это еще раз – лишено морального смысла, и притом в такой степени, что испорченность эта как раз ощущается мною сильнее всего именно там, где до сих пор наиболее сознательно стремились к «добродетели», к «божественности». Я понимаю испорченность, как об этом можно уже догадаться, в смысле dеcadence[3 - Декаданс, упадок (фр.). – Прим. ред.]: я утверждаю, что все ценности, к которым в настоящее время человечество стремится как к наивысшим, – суть ценности dеcadence.
Я называю животное – род, индивидуум – испорченным, когда оно теряет свои инстинкты, когда оно выбирает, когда оно предпочитает то, что ему вредно. История «высоких чувств», «идеалов человечества» – может быть, именно мне нужно ею заняться – была бы почти только выяснением того, почему человек так испорчен. Сама жизнь ценится мною как инстинкт роста, устойчивости, накопления сил, власти: где недостает воли к власти, там упадок. Я утверждаю, что всем высшим ценностям человечества недостает этой воли, что под самыми святыми именами господствуют ценности упадка, нигилистические ценности.
7
Христианство называют религией сострадания. Сострадание противоположно тоническим аффектам, повышающим энергию жизненного чувства; оно действует угнетающим образом. Через сострадание теряется сила. Состраданием еще увеличивается и усложняется убыль в силе, наносимая жизни страданием. Само страдание делается заразительным через сострадание; при известных обстоятельствах путем сострадания достигается такая величина ущерба жизни и жизненной энергии, которая находится в нелепо преувеличенном отношении к величине причины (случай смерти Назореянина). Вот первая точка зрения, но есть еще и более важная. Если измерять сострадание ценностью реакций, которые оно обыкновенно вызывает, то опасность его для жизни еще яснее. Сострадание вообще противоречит закону развития, который есть закон подбора. Оно поддерживает то, что должно погибнуть, оно встает на защиту в пользу обездоленных и осужденных жизнью; поддерживая в жизни неудачное всякого рода, оно делает саму жизнь мрачною и возбуждающею сомнение. Осмелились назвать сострадание добродетелью (в каждой благородной морали оно считается слабостью); по шли еще дальше: сделали из него добродетель по преимуществу, почву и источник всех добродетелей, конечно, лишь с точки зрения нигилистической философии, которая пишет на своем щите отрицание жизни, – и это надо всегда иметь в виду.
Шопенгауэр был прав: сострадание отрицает жизнь, оно делает ее более достойной отрицания, – сострадание есть практика нигилизма. Повторяю: этот угнетающий и заразительный инстинкт уничтожает те инстинкты, которые исходят из поддержания и повышения ценности жизни: умножая бедствие и охраняя все бедствующее, оно является главным орудием dеcadence – сострадание увлекает в ничто!.. Не говорят «ничто»: говорят вместо этого «по ту сторону», или «Бог», или «истинная жизнь», или «нирвана», «спасение», «блаженство»… Эта невинная риторика из области религиозно-нравственной идиосинкразии оказывается гораздо менее невинной, когда поймешь, какая тенденция облекается здесь в мантию возвышенных слов, тенденция, враждебная жизни. Шопенгауэр был враждебен жизни – поэтому сострадание сделалось у него добродетелью… Аристотель, как известно, видел в сострадании болезненное и опасное состояние, при котором недурно кое-когда прибегать к слабительному; он понимал трагедию – как слабительное. Исходя из инстинкта жизни, можно бы было в самом деле поискать средство удалить хирургическим путем такое болезненное и опасное скопление сострадания, какое представляет случай с Шопенгауэром (и, к сожалению, весь наш литературный и артистический dеcadence от Санкт-Петербурга до Парижа, от Толстого до Вагнера)… Нет ничего более нездорового среди нашей нездоровой современности, как христианское сострадание. Здесь быть врачом, здесь быть неумолимым, здесь действовать ножом, – это надлежит нам, это наш род любви к человеку, с которой живем мы – философы, мы – гипербореи!..
8
Необходимо сказать, кого мы считаем своей противоположностью: теологов и все, что от плоти и крови теологов, – всю нашу философию… Нужно вблизи увидеть роковое, больше того – нужно пережить его на себе, почти дойти до гибели, чтобы с ним уже не шутить более (свободомыслие наших господ естествоиспытателей и физиологов в моих глазах есть шутка; им недостает страсти в этих вещах, они не страдают ими). Отрава идет гораздо далее, чем думают: я нашел присущий теологам инстинкт высокомерия всюду, где теперь чувствуют себя «идеалистами», где, ссылаясь на высшее происхождение, мнят себя вправе относиться к действительности как к чему-то чуждому и смотреть на нее свысока… Идеалист совершенно так, как и жрец, все великие понятия держит в руке (и не только в руке!); он играет ими с благосклонным презрением к «разуму», «чувству», «чести», «благоденствию», «науке»; на все это он смотрит сверху вниз, как на вредные и соблазнительные силы, над которыми парит «дух» в самодовлеющей чистоте: как будто жизнь до сих пор не вредила себе целомудрием, бедностью, одним словом – святостью гораздо более, чем всякими ужасами и пороками… Чистый дух – есть чистая ложь… Пока жрец, этот отрицатель, клеветник, отравитель жизни по призванию, считается еще человеком высшей породы, – нет ответа на вопрос: что есть истина? Раз сознательный защитник отрицания жизни является заступником «истины», тем самым истина ставится вверх ногами…
9
Этому инстинкту теолога объявляю я войну: всюду находил я следы его. У кого в жилах течет кровь теолога, тот с самого начала не может относиться ко всем вещам прямо и честно. Развивающийся отсюда пафос называется вера, т. е. раз и навсегда закрывание глаз, чтобы не страдать от зрелища неисправимой лжи. Из этого оптического обмана создают себе мораль, добродетель, святость; чистую совесть связывают с фальшивым взглядом; освящая собственное мировоззрение терминами «Бог», «спасение», «вечность», не допускают, чтобы какая-нибудь иная оптика претендовала на ценность. Везде откапывал я инстинкт теолога: он есть самая распространенная и самая подземная форма лжи, какая только существует на земле. Все, что ощущает теолог как истинное, то должно быть ложным: в этом мы почти имеем критерий истины.
Его глубочайший инстинкт самосохранения запрещает, чтобы реальность в каком бы то ни было отношении пользовалась почетом или хотя бы просто заявляла о себе. Поскольку простирается влияние теологов, постольку извращается оценка, – необходимо подмениваются понятия «истинный» и «ложный»: что более всего вредит жизни, то здесь называется «истинным»; что ее возвышает, поднимает, утверждает, оправдывает и доставляет ей торжество, то называется «ложным». Если случается, что теологи, путем воздействия на «совесть» государей (или народов), протягивают руку к власти, то мы не сомневаемся, что собственно каждый раз тут происходит: воля к концу, нигилистическая воля волит власти…
10
Немцам сразу понятны мои слова, что кровь теологов испортила философию. Протестантский пастор – дедушка немецкой философии, сам протестантизм – ее peccatum originale[4 - Первородный грех (лат.).]. Вот определение протестантизма: односторонний паралич христианства – и разума… Достаточно сказать слова «тюбингенская школа», чтобы сделалось ясным, что немецкая философия в основании своем – коварная теология… Швабы – лучшие лжецы в Германии, они лгут невинно… Откуда то ликование при появлении Канта, которое охватило весь немецкий ученый мир, состоящий на три четверти из сыновей пасторов и учителей? Откуда убеждение немцев, еще и до сих пор находящее свой отзвук, что с Кантом начался поворот к лучшему? Инстинкт теолога в немецком ученом угадал, что теперь снова сделалось возможным… Открылась лазейка к старому идеалу; понятие «истинный мир», понятие о морали как сущности мира (два злостнейших заблуждения, какие только существуют!) – эти два понятия, благодаря хитроумному скептицизму, если не доказываются, то более не опровергаются… Разум, право разума сюда не достигает… Из реальности сделали «видимость», из совершенно изолганного мира, мира сущего, сделали реальность… Успех Канта есть лишь успех теолога. Кант, подобно Лютеру, подобно Лейбницу, был лишним тормозом для недостаточно твердой на ногах немецкой честности…
11
Еще одно слово против Канта как моралиста. Добродетель должна быть нашим изобретением, нашей глубоко личной защитой и потребностью: во всяком ином смысле она только опасность. Что не обусловливает нашу жизнь, то бредит ей: добродетель только из чувства уважения к понятию «добродетель», как хотел этого Кант, вредна. «Добродетель», «долг», «добро само по себе», доброе с характером безличности и всеобщности – все это химеры, в которых выражается упадок, крайнее обессиление жизни, кёнигсбергский китаизм. Самые глубокие законы сохранения и роста повелевают как раз обратное: чтобы каждый находил себе свою добродетель, свой категорический императив. Народ идет к гибели, если он смешивает свой долг с понятием долга вообще. Ничто не разрушает так глубоко, так захватывающе, как всякий «безличный» долг, всякая жертва молоху абстракции. – Разве не чувствуется категорический императив Канта как опасный для жизни!.. Только инстинкт теолога взял его под защиту! – Поступок, к которому вынуждает инстинкт жизни, имеет в чувстве удовольствия, им вызываемом, доказательство своей правильности; а тот нигилист с христиански-догматическими потрохами принимает удовольствие за возражение… Что действует разрушительнее того, если заставить человека работать, думать, чувствовать без внутренней необходимости, без глубокого личного выбора, без удовольствия? Как автомат «долга»? Это как раз рецепт dеcadence, даже идиотизма… Кант сделался идиотом. – И это был современник Гёте! Этот роковой паук считался немецким философом! Считается еще и теперь!.. Я остерегаюсь высказать, что я думаю о немцах… Разве не видел Кант во французской революции перехода неорганической формы государства в органическую? Разве не задавался он вопросом, нет ли такого явления, которое совершенно не может быть объяснено иначе как моральным настроением человечества, так чтобы им раз и навсегда была доказана «тенденция человечества к добру»? Ответ Канта: «это революция». Ошибочный инстинкт в общем и в частности, противоприродное как инстинкт, немецкая dеcadence как философия – вот что такое Кант!..
12
Если оставить в стороне пару скептиков, представителей порядочности в истории философии, то остальное все не удовлетворяет первым требованиям интеллектуальной честности. Все эти великие мечтатели и чудаки, вместе взятые, все они поступают, как бабенки: «прекрасные чувства» принимают они за аргументы, «душевное воздыхание» – за воздуходувку божества, убеждение – за критерий истины. В конце концов еще Кант в «немецкой» невинности пытался приобщить к науке эту форму коррупции, этот недостаток интеллектуальной совести, под видом понятия «практический разум»: он нарочно изобрел разум для того случая, когда о разуме не может быть и речи, когда именно мора ль провозглашает свое возвышенное требование: «ты должен». Принимая во внимание, что почти у всех народов философ есть только дальнейшее развитие жреческого типа, нечего удивляться его жульничеству перед самим собой, этому наследию жреца. Если имеешь священные задачи вроде исправления, спасения, искупления человечества, если носишь в груди божество, считаешь себя рупором потустороннего императива, то, облеченный в такую миссию, ставишь себя уже вне всех чисто рациональных оценок, – сам, освященный подобной задачей, изображаешь тип высшего порядка!.. Что за дело жрецу до науки! Он стоит слишком высоко для этого! – И этот жрец до сих пор господствовал! – Он определял понятие «истинный» и «неистинный»!..
13
Оценим в должной мере то, что мы сами, мы, свободные умы, уже есть «переоценка всех ценностей», воплощенный клич войны и победы над всеми старыми понятиями об «истинном» и «неистинном». Самое ценное в интеллектуальном отношении отыскивается позднее всего. Но самое ценное – это методы. Все методы, все предпосылки нашей теперешней научности встречали глубочайшее презрение в течение тысячелетий; из-за них иные исключались из общества «честных» людей, считались «врагами Бога», презирающими истину, «одержимыми». Научные склонности человека делали из него чандалу… Весь пафос человечества – его понятие о том, что должно быть истиной, чем должно быть служение истине – все было против нас: каждое «ты должен» было до сих пор направлено против нас… Предметы наших занятий, самые занятия, весь род наш – тихий, осмотрительный, недоверчивый – все казалось совершенно недостойным и заслуживающим презрения. – В конце концов, с известной долей справедливости можно бы было спросить себя: не эстетический ли вкус удерживал человечество в столь длительной слепоте? Оно требовало от истины живописного эффекта, оно требовало и от познающего, чтобы он сильно действовал на чувство. Наша скромность дольше всего претила его вкусу… О, как они это угадали, эти божьи индюки!..
14
Нам пришлось переучиваться. Во всем мы сделались скромнее. Мы более не выводим человека из «духа», из «божества», мы отодвинули его в ряды животных. Мы считаем его сильнейшим животным, потому что он хитрее всех, – следствием этого является его духовность. С другой стороны, мы устраняем от себя тщеславное чувство, которое и здесь могло бы проявиться: что человек есть великая скрытая цель развития животного мира. Он совсем не венец творения, каждое существо рядом с ним стоит на равной ступени совершенства… Утверждая это, мы утверждаем еще большее: человек, взятый относительно, есть самое неудачное животное, самое болезненное, уклонившееся от своих инстинктов самым опасным для себя образом, – но, конечно, со всем этим и интереснейшее! – Что касается животных, то с достойною уважения смелостью Декарт впервые рискнул высказать мысль, что животное можно понимать как machina, – вся наша физиология старается доказать это положение. Развивая логически эту мысль, мы не исключаем и человека, как это делал еще Декарт: современные понятия о человеке развиваются именно в механическом направлении. Прежде придавали человеку качество высшего порядка – «свободную волю»; теперь мы отняли у него даже волю в том смысле, что под волей нельзя уже более подразумевать силу. Старое слово «воля» служит только для того, чтобы обозначить некую результанту, некий род индивидуальной реакции, которая необходимо следует за известным количеством частью противоречащих, частью согласующихся раздражений: воля более не «действует», более не «двигает»… Прежде видели в сознании человека, в «духе» доказательство его высшего происхождения, его божественности; ему советовали, если он хотел быть совершенным, втянуть, подобно черепахе, в себя свои чувства, прекратить общение с земным, скинуть земную оболочку: тогда от него должно было остаться главное – «чистый дух». Насчет этого мы теперь уже лучше соображаем: как раз именно сознание, «дух» мы считаем симптомом относительного несовершенства организма, как бы попыткой, прощупыванием, промахом, как бы усилием, при котором бесполезно тратится много нервной силы; мы отрицаем, чтобы что-нибудь могло быть совершенным, раз оно делается сознательно. «Чистый дух» есть чистая глупость: если мы сбросим со счета нервную систему и чувства, «смертную оболочку», то мы обсчитаемся – вот и все.
15
Фридрих Вильгельм Ницше
В сборнике представлены два произведения Фридриха Ницше – «Антихрист» и «Ecce Homo» – последние, написанные им до того, как безумие окончательно поглотило его разум. «Антихрист» – скандальная книга, где Ницше ставит под вопрос сущность христианства, книга-протест против выбранного церковью пути. «Ecce Homo» – набор автобиографических заметок, написанных, по словам Ницше, за месяц.
Фридрих Ницше
Антихрист. Ecce Homo (сборник)
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2016
Антихрист. Проклятие христианству
Предисловие
Эта книга принадлежит немногим. Может быть, никто из этих немногих еще и не существует. Ими могут быть те, кто понимает моего Заратустру; как мог бы я смешаться с теми, у кого лишь сегодня открываются уши? Только послезавтра принадлежит мне. Иные люди родятся posthum.
Условия, при которых меня понимают и тогда уже понимают с необходимостью, – я знаю их слишком хорошо. Надо быть честным в интеллектуальных вещах до жестокости, чтобы только вынести мою серьезность, мою страсть. Надо иметь привычку жить на горах – видеть под собою жалкую болтовню современной политики и национального эгоизма. Надо сделаться равнодушным, никогда не спрашивать, приносит ли истина пользу или становится роком для личности… Пристрастие силы к вопросам, на которые сегодня ни у кого нет мужества; мужество к запретному; предназначение к лабиринту. Опыт из семи одиночеств. Новые уши для новой музыки. Новые глаза для самого дальнего. Новая совесть для истин, которые оставались до сих пор немыми. И воля к экономии высокого стиля: сплачивать свою силу, свое вдохновение. Уважение к себе; любовь к себе; безусловная свобода относительно себя…
Итак, только это – мои читатели, мои настоящие читатели, мои предопределенные читатели: что за дело до остального? Остальное – лишь человечество. Надо стать выше человечества силой, высотой души – презрением…
Фридрих Ницше
1
Обратимся к себе. Мы гипербореи – мы достаточно хорошо знаем, как далеко в стороне мы живем от других. «Ни землей, ни водой ты не найдешь пути к гипербореям» – так понимал нас еще Пиндар[1 - Пиндар. Десятая Пифийская песнь.]. По ту сторону севера, льда, смерти – наша жизнь, наше счастье. Мы открыли счастье, мы знаем путь, мы нашли выход из целых тысячелетий лабиринта. Кто же нашел его? – Неужели современный человек? – «Я не знаю, куда деваться; я всё, что не знает, куда деваться», – вздыхает современный человек. Этой современностью болели мы, мы болели ленивым миром, трусливым компромиссом, всей добродетельной нечистоплотностью современных Да и Нет. Эта терпимость, largeur[2 - Широта (фр.).] сердца, которая все «извиняет», потому что все «понимает», действует на нас как сирокко. Лучше жить среди льдов, чем под теплыми веяниями современных добродетелей. Мы были достаточно смелы, мы не щадили ни себя, ни других, но мы долго не знали, куда нам направить нашу смелость. Мы были мрачны, нас называли фаталистами. Нашим фатумом было: полнота, напряжение, накопление сил. Мы жаждали молний и дел, мы оставались вдали от счастья немощных, от «смирения». Грозовые тучи вокруг, мрак внутри нас: мы не имели пути; формула нашего счастья: одно Да, одно Нет, одна прямая линия, одна цель.
2
Что хорошо? – Все, что повышает в человеке чувство власти, волю к власти, самую власть.
Что дурно? – Все, что происходит из слабости.
Что есть счастье? – Чувство растущей власти, чувство преодолеваемого противодействия.
Не удовлетворенность, но стремление к власти, не мир вообще, но война, не добродетель, но полнота способностей (добродетель в стиле Ренессанс, virtu, добродетель, свободная от моралина).
Слабые и неудачники должны погибнуть: первое положение нашей любви к человеку. И им должно еще помочь в этом.
Что вреднее всякого порока? – Деятельное сострадание ко всем неудачникам и слабым – христианство.
3
Моя проблема не в том, как завершает собою человечество последовательный ряд сменяющихся существ (человек – это конец), но какой тип человека следует взрастить, какой тип желателен, как более ценный, более достойный жизни, будущности.
Этот более ценный тип уже существовал нередко, но лишь как счастливая случайность, как исключение, и никогда – как нечто преднамеренное. Наоборот, – его боялись более всего; до сих пор он внушал почти ужас, и из страха перед ним желали, взращивали и достигали человека противоположного типа: типа домашнего животного, стадного животного, больного животного – христианина.
4
Человечество не представляет собою развития к лучшему, или к сильнейшему, или к высшему, как в это до сих пор верят. «Прогресс» есть лишь современная идея, иначе говоря, фальшивая идея. Теперешний европеец по своей ценности глубоко ниже европейца эпохи Возрождения, поступательное развитие решительно не представляет собою какой-либо необходимости повышения, усиления.
Совсем в ином смысле, в единичных случаях на различных территориях земного шара и среди различных культур, удается проявление того, что фактически представляет собою высший тип, что по отношению к целому человечеству представляет род сверхчеловека. Такие счастливые случайности всегда бывали и всегда могут быть возможны. И при благоприятных обстоятельствах такими удачами могут быть целые поколения, племена, народы.
5
Не следует украшать и выряжать христианство: оно объявило смертельную войну этому высшему типу человека, оно отреклось от всех основных инстинктов этого типа; из этих инстинктов оно выцедило понятие зла, злого человека: сильный человек сделался негодным человеком, «отверженцем». Христианство взяло сторону всех слабых, униженных, не удачников, оно создало идеал из противоречия инстинктов поддержания сильной жизни; оно внесло порчу в самый разум духовно сильных натур, так как оно научило их чувствовать высшие духовные ценности как греховные, ведущие к заблуждению, как искушения. Вот пример, вызывающий глубочайшее сожаление: гибель Паскаля, который верил в то, что причиной гибели его разума был первородный грех, между тем как ею было лишь христианство.
6
Мучительное, страшное зрелище представилось мне: я отдернул завесу с испорченности человека. В моих устах это слово свободно по крайней мере от одного подозрения: будто бы оно заключает в себе моральное обвинение. Слово это – я желал бы подчеркнуть это еще раз – лишено морального смысла, и притом в такой степени, что испорченность эта как раз ощущается мною сильнее всего именно там, где до сих пор наиболее сознательно стремились к «добродетели», к «божественности». Я понимаю испорченность, как об этом можно уже догадаться, в смысле dеcadence[3 - Декаданс, упадок (фр.). – Прим. ред.]: я утверждаю, что все ценности, к которым в настоящее время человечество стремится как к наивысшим, – суть ценности dеcadence.
Я называю животное – род, индивидуум – испорченным, когда оно теряет свои инстинкты, когда оно выбирает, когда оно предпочитает то, что ему вредно. История «высоких чувств», «идеалов человечества» – может быть, именно мне нужно ею заняться – была бы почти только выяснением того, почему человек так испорчен. Сама жизнь ценится мною как инстинкт роста, устойчивости, накопления сил, власти: где недостает воли к власти, там упадок. Я утверждаю, что всем высшим ценностям человечества недостает этой воли, что под самыми святыми именами господствуют ценности упадка, нигилистические ценности.
7
Христианство называют религией сострадания. Сострадание противоположно тоническим аффектам, повышающим энергию жизненного чувства; оно действует угнетающим образом. Через сострадание теряется сила. Состраданием еще увеличивается и усложняется убыль в силе, наносимая жизни страданием. Само страдание делается заразительным через сострадание; при известных обстоятельствах путем сострадания достигается такая величина ущерба жизни и жизненной энергии, которая находится в нелепо преувеличенном отношении к величине причины (случай смерти Назореянина). Вот первая точка зрения, но есть еще и более важная. Если измерять сострадание ценностью реакций, которые оно обыкновенно вызывает, то опасность его для жизни еще яснее. Сострадание вообще противоречит закону развития, который есть закон подбора. Оно поддерживает то, что должно погибнуть, оно встает на защиту в пользу обездоленных и осужденных жизнью; поддерживая в жизни неудачное всякого рода, оно делает саму жизнь мрачною и возбуждающею сомнение. Осмелились назвать сострадание добродетелью (в каждой благородной морали оно считается слабостью); по шли еще дальше: сделали из него добродетель по преимуществу, почву и источник всех добродетелей, конечно, лишь с точки зрения нигилистической философии, которая пишет на своем щите отрицание жизни, – и это надо всегда иметь в виду.
Шопенгауэр был прав: сострадание отрицает жизнь, оно делает ее более достойной отрицания, – сострадание есть практика нигилизма. Повторяю: этот угнетающий и заразительный инстинкт уничтожает те инстинкты, которые исходят из поддержания и повышения ценности жизни: умножая бедствие и охраняя все бедствующее, оно является главным орудием dеcadence – сострадание увлекает в ничто!.. Не говорят «ничто»: говорят вместо этого «по ту сторону», или «Бог», или «истинная жизнь», или «нирвана», «спасение», «блаженство»… Эта невинная риторика из области религиозно-нравственной идиосинкразии оказывается гораздо менее невинной, когда поймешь, какая тенденция облекается здесь в мантию возвышенных слов, тенденция, враждебная жизни. Шопенгауэр был враждебен жизни – поэтому сострадание сделалось у него добродетелью… Аристотель, как известно, видел в сострадании болезненное и опасное состояние, при котором недурно кое-когда прибегать к слабительному; он понимал трагедию – как слабительное. Исходя из инстинкта жизни, можно бы было в самом деле поискать средство удалить хирургическим путем такое болезненное и опасное скопление сострадания, какое представляет случай с Шопенгауэром (и, к сожалению, весь наш литературный и артистический dеcadence от Санкт-Петербурга до Парижа, от Толстого до Вагнера)… Нет ничего более нездорового среди нашей нездоровой современности, как христианское сострадание. Здесь быть врачом, здесь быть неумолимым, здесь действовать ножом, – это надлежит нам, это наш род любви к человеку, с которой живем мы – философы, мы – гипербореи!..
8
Необходимо сказать, кого мы считаем своей противоположностью: теологов и все, что от плоти и крови теологов, – всю нашу философию… Нужно вблизи увидеть роковое, больше того – нужно пережить его на себе, почти дойти до гибели, чтобы с ним уже не шутить более (свободомыслие наших господ естествоиспытателей и физиологов в моих глазах есть шутка; им недостает страсти в этих вещах, они не страдают ими). Отрава идет гораздо далее, чем думают: я нашел присущий теологам инстинкт высокомерия всюду, где теперь чувствуют себя «идеалистами», где, ссылаясь на высшее происхождение, мнят себя вправе относиться к действительности как к чему-то чуждому и смотреть на нее свысока… Идеалист совершенно так, как и жрец, все великие понятия держит в руке (и не только в руке!); он играет ими с благосклонным презрением к «разуму», «чувству», «чести», «благоденствию», «науке»; на все это он смотрит сверху вниз, как на вредные и соблазнительные силы, над которыми парит «дух» в самодовлеющей чистоте: как будто жизнь до сих пор не вредила себе целомудрием, бедностью, одним словом – святостью гораздо более, чем всякими ужасами и пороками… Чистый дух – есть чистая ложь… Пока жрец, этот отрицатель, клеветник, отравитель жизни по призванию, считается еще человеком высшей породы, – нет ответа на вопрос: что есть истина? Раз сознательный защитник отрицания жизни является заступником «истины», тем самым истина ставится вверх ногами…
9
Этому инстинкту теолога объявляю я войну: всюду находил я следы его. У кого в жилах течет кровь теолога, тот с самого начала не может относиться ко всем вещам прямо и честно. Развивающийся отсюда пафос называется вера, т. е. раз и навсегда закрывание глаз, чтобы не страдать от зрелища неисправимой лжи. Из этого оптического обмана создают себе мораль, добродетель, святость; чистую совесть связывают с фальшивым взглядом; освящая собственное мировоззрение терминами «Бог», «спасение», «вечность», не допускают, чтобы какая-нибудь иная оптика претендовала на ценность. Везде откапывал я инстинкт теолога: он есть самая распространенная и самая подземная форма лжи, какая только существует на земле. Все, что ощущает теолог как истинное, то должно быть ложным: в этом мы почти имеем критерий истины.
Его глубочайший инстинкт самосохранения запрещает, чтобы реальность в каком бы то ни было отношении пользовалась почетом или хотя бы просто заявляла о себе. Поскольку простирается влияние теологов, постольку извращается оценка, – необходимо подмениваются понятия «истинный» и «ложный»: что более всего вредит жизни, то здесь называется «истинным»; что ее возвышает, поднимает, утверждает, оправдывает и доставляет ей торжество, то называется «ложным». Если случается, что теологи, путем воздействия на «совесть» государей (или народов), протягивают руку к власти, то мы не сомневаемся, что собственно каждый раз тут происходит: воля к концу, нигилистическая воля волит власти…
10
Немцам сразу понятны мои слова, что кровь теологов испортила философию. Протестантский пастор – дедушка немецкой философии, сам протестантизм – ее peccatum originale[4 - Первородный грех (лат.).]. Вот определение протестантизма: односторонний паралич христианства – и разума… Достаточно сказать слова «тюбингенская школа», чтобы сделалось ясным, что немецкая философия в основании своем – коварная теология… Швабы – лучшие лжецы в Германии, они лгут невинно… Откуда то ликование при появлении Канта, которое охватило весь немецкий ученый мир, состоящий на три четверти из сыновей пасторов и учителей? Откуда убеждение немцев, еще и до сих пор находящее свой отзвук, что с Кантом начался поворот к лучшему? Инстинкт теолога в немецком ученом угадал, что теперь снова сделалось возможным… Открылась лазейка к старому идеалу; понятие «истинный мир», понятие о морали как сущности мира (два злостнейших заблуждения, какие только существуют!) – эти два понятия, благодаря хитроумному скептицизму, если не доказываются, то более не опровергаются… Разум, право разума сюда не достигает… Из реальности сделали «видимость», из совершенно изолганного мира, мира сущего, сделали реальность… Успех Канта есть лишь успех теолога. Кант, подобно Лютеру, подобно Лейбницу, был лишним тормозом для недостаточно твердой на ногах немецкой честности…
11
Еще одно слово против Канта как моралиста. Добродетель должна быть нашим изобретением, нашей глубоко личной защитой и потребностью: во всяком ином смысле она только опасность. Что не обусловливает нашу жизнь, то бредит ей: добродетель только из чувства уважения к понятию «добродетель», как хотел этого Кант, вредна. «Добродетель», «долг», «добро само по себе», доброе с характером безличности и всеобщности – все это химеры, в которых выражается упадок, крайнее обессиление жизни, кёнигсбергский китаизм. Самые глубокие законы сохранения и роста повелевают как раз обратное: чтобы каждый находил себе свою добродетель, свой категорический императив. Народ идет к гибели, если он смешивает свой долг с понятием долга вообще. Ничто не разрушает так глубоко, так захватывающе, как всякий «безличный» долг, всякая жертва молоху абстракции. – Разве не чувствуется категорический императив Канта как опасный для жизни!.. Только инстинкт теолога взял его под защиту! – Поступок, к которому вынуждает инстинкт жизни, имеет в чувстве удовольствия, им вызываемом, доказательство своей правильности; а тот нигилист с христиански-догматическими потрохами принимает удовольствие за возражение… Что действует разрушительнее того, если заставить человека работать, думать, чувствовать без внутренней необходимости, без глубокого личного выбора, без удовольствия? Как автомат «долга»? Это как раз рецепт dеcadence, даже идиотизма… Кант сделался идиотом. – И это был современник Гёте! Этот роковой паук считался немецким философом! Считается еще и теперь!.. Я остерегаюсь высказать, что я думаю о немцах… Разве не видел Кант во французской революции перехода неорганической формы государства в органическую? Разве не задавался он вопросом, нет ли такого явления, которое совершенно не может быть объяснено иначе как моральным настроением человечества, так чтобы им раз и навсегда была доказана «тенденция человечества к добру»? Ответ Канта: «это революция». Ошибочный инстинкт в общем и в частности, противоприродное как инстинкт, немецкая dеcadence как философия – вот что такое Кант!..
12
Если оставить в стороне пару скептиков, представителей порядочности в истории философии, то остальное все не удовлетворяет первым требованиям интеллектуальной честности. Все эти великие мечтатели и чудаки, вместе взятые, все они поступают, как бабенки: «прекрасные чувства» принимают они за аргументы, «душевное воздыхание» – за воздуходувку божества, убеждение – за критерий истины. В конце концов еще Кант в «немецкой» невинности пытался приобщить к науке эту форму коррупции, этот недостаток интеллектуальной совести, под видом понятия «практический разум»: он нарочно изобрел разум для того случая, когда о разуме не может быть и речи, когда именно мора ль провозглашает свое возвышенное требование: «ты должен». Принимая во внимание, что почти у всех народов философ есть только дальнейшее развитие жреческого типа, нечего удивляться его жульничеству перед самим собой, этому наследию жреца. Если имеешь священные задачи вроде исправления, спасения, искупления человечества, если носишь в груди божество, считаешь себя рупором потустороннего императива, то, облеченный в такую миссию, ставишь себя уже вне всех чисто рациональных оценок, – сам, освященный подобной задачей, изображаешь тип высшего порядка!.. Что за дело жрецу до науки! Он стоит слишком высоко для этого! – И этот жрец до сих пор господствовал! – Он определял понятие «истинный» и «неистинный»!..
13
Оценим в должной мере то, что мы сами, мы, свободные умы, уже есть «переоценка всех ценностей», воплощенный клич войны и победы над всеми старыми понятиями об «истинном» и «неистинном». Самое ценное в интеллектуальном отношении отыскивается позднее всего. Но самое ценное – это методы. Все методы, все предпосылки нашей теперешней научности встречали глубочайшее презрение в течение тысячелетий; из-за них иные исключались из общества «честных» людей, считались «врагами Бога», презирающими истину, «одержимыми». Научные склонности человека делали из него чандалу… Весь пафос человечества – его понятие о том, что должно быть истиной, чем должно быть служение истине – все было против нас: каждое «ты должен» было до сих пор направлено против нас… Предметы наших занятий, самые занятия, весь род наш – тихий, осмотрительный, недоверчивый – все казалось совершенно недостойным и заслуживающим презрения. – В конце концов, с известной долей справедливости можно бы было спросить себя: не эстетический ли вкус удерживал человечество в столь длительной слепоте? Оно требовало от истины живописного эффекта, оно требовало и от познающего, чтобы он сильно действовал на чувство. Наша скромность дольше всего претила его вкусу… О, как они это угадали, эти божьи индюки!..
14
Нам пришлось переучиваться. Во всем мы сделались скромнее. Мы более не выводим человека из «духа», из «божества», мы отодвинули его в ряды животных. Мы считаем его сильнейшим животным, потому что он хитрее всех, – следствием этого является его духовность. С другой стороны, мы устраняем от себя тщеславное чувство, которое и здесь могло бы проявиться: что человек есть великая скрытая цель развития животного мира. Он совсем не венец творения, каждое существо рядом с ним стоит на равной ступени совершенства… Утверждая это, мы утверждаем еще большее: человек, взятый относительно, есть самое неудачное животное, самое болезненное, уклонившееся от своих инстинктов самым опасным для себя образом, – но, конечно, со всем этим и интереснейшее! – Что касается животных, то с достойною уважения смелостью Декарт впервые рискнул высказать мысль, что животное можно понимать как machina, – вся наша физиология старается доказать это положение. Развивая логически эту мысль, мы не исключаем и человека, как это делал еще Декарт: современные понятия о человеке развиваются именно в механическом направлении. Прежде придавали человеку качество высшего порядка – «свободную волю»; теперь мы отняли у него даже волю в том смысле, что под волей нельзя уже более подразумевать силу. Старое слово «воля» служит только для того, чтобы обозначить некую результанту, некий род индивидуальной реакции, которая необходимо следует за известным количеством частью противоречащих, частью согласующихся раздражений: воля более не «действует», более не «двигает»… Прежде видели в сознании человека, в «духе» доказательство его высшего происхождения, его божественности; ему советовали, если он хотел быть совершенным, втянуть, подобно черепахе, в себя свои чувства, прекратить общение с земным, скинуть земную оболочку: тогда от него должно было остаться главное – «чистый дух». Насчет этого мы теперь уже лучше соображаем: как раз именно сознание, «дух» мы считаем симптомом относительного несовершенства организма, как бы попыткой, прощупыванием, промахом, как бы усилием, при котором бесполезно тратится много нервной силы; мы отрицаем, чтобы что-нибудь могло быть совершенным, раз оно делается сознательно. «Чистый дух» есть чистая глупость: если мы сбросим со счета нервную систему и чувства, «смертную оболочку», то мы обсчитаемся – вот и все.
15