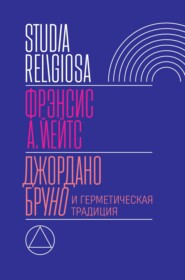По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Искусство памяти
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Квинтилиан, человек в высшей степени здравомыслящий и превосходный воспитатель, был самым известным учителем риторики в Риме в I столетии н. э. Его трактат Institutio oratoria появился спустя более сотни лет после De oratore Цицерона. Несмотря на то что древние со вниманием относились к похвалам, которые Цицерон воздает искусству памяти, может показаться, что значимость ее не признавалась чем-то само собой разумеющимся в риторических кругах Рима. Как говорит Квинтилиан, теперь некоторые делят риторику всего на три части, на основании того, что memoria и actio даны нам «от природы, а не благодаря искусству»[29 - Institutio oratoria, III, iii, 4.]. Собственное его отношение к искусной памяти не совсем ясно, тем не менее он уделяет ей пристальное внимание.
Подобно Цицерону, Квинтилиан начинает свое описание искусной памяти с истории ее изобретения Симонидом; его версия, хотя в основном и совпадает с рассказом Цицерона, все же расходится с ним в некоторых деталях. Он добавляет к тому же, что в греческих источниках встречалось много вариантов этой истории и что своей широкой известностью в современную ему эпоху она обязана Цицерону.
По-видимому, это достижение Симонида и заставило обратить внимание на то, что запоминание значительно облегчается, когда места запечатлеваются в уме, в чем каждый может убедиться на опыте. Ибо, возвратившись в какое-нибудь место после продолжительного отсутствия, мы не только узнаем само это место, но вспоминаем также, что мы в этом месте делали, вспоминаем людей, с которыми там встречались, и даже невысказанные мысли, которые занимали в то время наш ум. Таким образом, как чаще всего и бывает, искусство возникает из опыта.
Выбранные места могут отличаться крайним разнообразием, например, это может быть просторный дом со множеством комнат. Каждая деталь выбранного строения старательно запечатлевается в уме, чтобы мысль могла беспрепятственно обойти все его помещения. Прежде всего следует убедиться в том, что при обходе этих мест не возникает никаких препятствий, ибо память, призванная помогать другой памяти, должна быть более надежной. Затем то, что было записано или придумано, помечается знаком, который будет напоминать о нем. Этот знак может быть извлечен из целой «вещи», например мореплавания или воинского искусства, или из какого-нибудь «слова»; ибо то, что ускользнуло из памяти, можно возвратить, опираясь на одно-единственное слово. Предположим, однако, что знак извлечен из мореплавания, как, например, якорь; или из воинского искусства, например меч. Тогда эти знаки располагаются следующим образом. Первый предмет размещается в передней, второй, скажем, в атриуме, остальные напоминания располагаются по порядку вокруг имплювиума и далее не только в спальнях и кабинетах, но также на статуях и других украшениях. После этого, когда потребуется пробудить воспоминание, нужно будет, начиная с первого места, обойти их все, востребуя то, что было им доверено и о чем напомнят образы. Итак, сколь бы многочисленны ни были детали, которые нужно запомнить, все они связываются друг с другом, как и в хоре то, что следует, не может уйти в сторону от того, что ему предшествовало и с чем оно связано; требуется только предварительно этому научиться.
То, что, как я говорил, было сделано в доме, могло быть также сделано и в общественных зданиях или во время длительного путешествия, на прогулке по городу или с помощью картин. Либо же мы можем вообразить такие места для собственных нужд.
Таким образом, нам нужны места, реальные или воображаемые, а также образы или подобия, которые предстоит придумать. Образы подобны словам, которыми мы обозначаем вещи, чтобы запомнить их, так что, как говорит Цицерон, «мы используем места в качестве восковых табличек, а образы – в качестве букв». Можно привести и его собственные слова: «Нужно иметь в своем распоряжении большое число мест, хорошо освещенных, расположенных в строгом порядке и на некотором расстоянии друг от друга; а также образы – активные, четко очерченные, необычные, такие, которые могут встретиться с умом и проникнуть в него». Что меня больше всего изумляет, так это как Метродору удалось найти 360 мест в двенадцати знаках, через которые проходит Солнце. Без сомнения, все это – тщеславие и хвастовство человека, гордившегося более искусной, нежели природной памятью[30 - Institutio oratoria, XI, ii, 17–22.].
Сбитый с толку студент, изучающий искусство памяти, будет благодарен Квинтилиану. Если бы не его ясные предписания, как нам следует двигаться по комнатам в доме, в общественном здании или вдоль городской улицы при запоминании выбранных нами мест, мы никогда не разобрались бы в том, что имеют в виду «правила мест». Он приводит весьма разумную причину, по которой места могут способствовать запоминанию, ведь мы знаем по опыту, что место будит в памяти ассоциации. И описываемая им система, в которой используются знаки для «вещей», например якорь или меч, когда с помощью такого знака в памяти всплывает всего лишь одно слово, позволяющее припомнить всю фразу, – такая система кажется вполне возможной и доступной для понимания. Именно это мы и будем называть мнемотехникой. В ту пору, в античности, существовала такая практика, в которой это слово употреблялось в том же самом смысле, в каком употребляем его мы.
У Квинтилиана не упоминаются необычные imagines agentes, хотя он, конечно же, знает об их существовании, поскольку цитирует Цицероново сокращенное изложение правил, которые сами почерпнуты из Ad Herennium, точнее, из той оперирующей странными образами практики запоминания, которая описана в этом сочинении. Но, приведя Цицеронову версию правил, Квинтилиан отваживается резко возражать прославленному ритору, совершенно иначе оценивая искусство Метродора Скепсийского. Для Цицерона память Метродора была «почти божественной». По Квинтилиану, этот человек был хвастуном и едва ли не шарлатаном. К тому же мы узнаём от Квинтилиана один интересный факт, о котором речь пойдет позднее, а именно, что божественная или просто претенциозная (в зависимости от точки зрения) система памяти Метродора Скепсийского была основана на двенадцати знаках зодиака.
Рассмотрение искусства памяти Квинтилиан завершает следующими словами:
Я вовсе не отрицаю, что такие приемы могут пригодиться для определенных целей, например, когда нам нужно воспроизвести множество названий вещей в том порядке, в каком мы их услышали. Те, кто пользуется такими вспомогательными средствами, располагают сами вещи в их памятных местах; стол, например, они помещают в передней, трибуну – в атриуме и подобным образом все остальное; и, обходя все эти места, они найдут предметы там, где их разместили. Такая практика была, возможно, принята у тех, кто после аукциона умел сразу объявить, что именно из вещей было продано каждому покупателю, после чего их заявления сверяли с учетными книгами; такую ловкость, говорят, демонстрировал Гортензий. Однако все это мало поспособствует удержанию в памяти фрагментов речи. Ибо предметы речи не пробуждают образов в отличие от материальных вещей, и для них потребуется придумать что-нибудь другое, хотя и здесь отдельное место может заставить нас вспомнить, например, о каком-либо разговоре, в котором мы участвовали, когда находились в этом месте. Но как такому искусству ухватить всю последовательность связанных между собой слов? Я уже не говорю о том, что некоторые слова нельзя представить никаким подобием, например союзы. Конечно, мы можем, подобно скорописцам, располагать твердо установленными образами для всевозможных вещей, можем располагать бесконечным числом мест, которые напомнили бы нам все слова из пяти книг второй сессии против Верреса, мы можем даже вспомнить их все, словно бы они хранились, как вклад в банковском сейфе. Но разве эта возложенная на память двойная задача не прерывала бы течение нашей речи? Ибо как можно ожидать, что наши слова польются единым потоком, если нам придется припоминать особые формы для каждого отдельного слова? Поэтому Хармад и Метродор Скепсийский, о которых я только что упоминал и которые, по словам Цицерона, пользовались этим методом, могут оставить свои системы при себе; мои предписания будут куда более просты[31 - Institutio oratoria, XI, ii, 23–26.].
Метод аукциониста, располагающего в памятных местах образы реальных проданных им предметов, в точности подобен методу, примененному профессором, чей способ развлечь своих студентов мы описали выше. Этот метод, как говорит Квинтилиан, будет работать и может пригодиться для определенных целей. Но его применение для запоминания речи с помощью образов для «вещей», полагает автор, вряд ли будет оправдано, потому что вызовет много трудностей; ведь тогда потребуется придумывать все эти образы для «вещей». Кажется, Квинтилиан не рекомендует использовать даже такие простые образы, как якорь и меч. Он ничего не говорит о фантастических imagines agentes – ни для вещей, ни для слов. Образы для слов он интерпретирует как скорописные notae, запоминаемые в местах памяти; это именно тот греческий метод, который отверг автор Ad Herennium и использование которого, по мнению Квинтилиана, Цицерон ставил в заслугу Хармаду и Метродору Скепсийскому.
«Более простые предписания» для тренировки памяти, которые Квинтилиан предлагает вместо ее искусства, состоят главным образом в пропаганде тщательного и прилежного заучивания речей и т. п. наизусть, обычным способом, но иногда он допускает использование некоторых упрощенных мнемонических приемов. Чтобы запомнить какой-нибудь трудный пассаж, можно пользоваться самостоятельно придуманными пометками; эти знаки могут быть сообразованы даже со стилем мышления. Такие знаки, «пусть они и заимствованы из мнемонических систем», обладают все же некоторой ценностью. Но больше всего ученику может помочь одно средство:
а именно, заучивать фрагмент наизусть по тем самым табличкам, на которых он его записал. Ведь тогда он будет двигаться за памятью по четкому следу, и взор разума будет прикован не просто к страницам, на которых записаны слова, но к линиям индивидуального почерка, и временами он будет говорить, как бы читая вслух по написанному… Этот прием имеет некоторое сходство с мнемонической системой, о которой я упоминал выше, но (если мой опыт чего-нибудь стоит) он и более прост в употреблении, и более эффективен[32 - Institutio oratoria, XI, ii, 32–33.].
Я понимаю эти слова в том смысле, что рекомендуемый метод заимствует из мнемонической системы прием визуализации записанного в определенных «местах», но не пытается наглядно представить скорописные notae в некой обширной системе мест, а визуализирует обычную запись на реальной табличке или странице.
Было бы интересно узнать, имел ли в виду Квинтилиан, подготавливая свою табличку или страницу для запоминания и нанося на нее знаки (notae), или даже изображая на ней сформированные в соответствии с правилами imagines agentes, что ими должны помечаться места, которых достигает память, когда она следует за написанным.
Таким образом, обнаруживается заметное различие между отношением к искусной памяти, с одной стороны, Квинтилиана, а с другой – Цицерона и автора Ad Herennium. Очевидно, что imagines agentes, изумляющие нас жестикуляцией со своих мест и пробуждающие воспоминания через обращение к эмоциям, казались первому, как и нам, громоздкими и бесполезными для практических целей мнемоники. Быть может, римское общество становилось все более рассудочным, в результате чего утрачивалась напряженная, архаическая, чуть ли не магическая непосредственная связь памяти с образами? Или все дело лишь в различии темпераментов? Не потому ли Квинтилиан недооценивал искусную память, что ему недоставало остроты зрительного восприятия, необходимой для визуального запоминания? В отличие от Цицерона он не упоминает о том, что изобретение Симонида базировалось на главенствующем положении зрения среди других чувств.
Из трех источников классического искусства памяти, рассмотренных в этой главе, не рассудительное критическое изложение Квинтилиана и не изящные, но недостаточно ясные формулировки Цицерона легли в основу ее позднейшей западной традиции. Такой основой стали предписания, разработанные неизвестным учителем риторики.
Глава II
Искусство памяти в Греции: память и душа
Жутковатая история о том, как Симонид припоминал лица людей в том порядке, в каком они сидели на пиру за мгновение до своей ужасной гибели, позволяет предположить, что образы людей были составной частью искусства памяти, доставшегося Риму от Греции. По Квинтилиану, в греческих источниках было несколько вариантов этой истории[33 - Квинтилиан (Institutio oratoria, XI, ii, 14–16) говорит, что греческие источники расходятся в том, действительно ли пир происходил «в Фарсале, на что, по-видимому, в одном месте указывает сам Симонид и как записано у Аполлодора, Эратосфена, Евфориона и Еврипила Ларисского, или же в Кранноне, как сказано у Аполласа Каллимаха, которому вторит Цицерон».], которая в учебниках риторики, вероятнее всего, выполняла роль стандартной преамбулы к разделу об искусной памяти. Таких пособий в Греции было, конечно, немало, но они до нас не дошли, и потому любое наше высказывание о греческой искусной памяти может опереться только на три латинских источника.
Симонид Кеосский (ок. 556–468 до н. э.)[34 - Все упоминания о Симониде в античной литературе собраны в Lyra Graeca, изданной в переводах Дж. М. Эдмондса, Loeb Classical Library, Vol. II (1924), pp. 246 ff.] принадлежит к эпохе досократиков. В годы его молодости, возможно, был еще жив Пифагор. Один из самых почитаемых лирических поэтов Греции (сохранилось очень мало его стихов), он был прозван «медоречивым» – Simonides Melicus в латинской транскрипции – и в особенности славился своими прекрасными образами. Множество новых начинаний приписывалось этому, по всей видимости, блестяще одаренному и оригинальному человеку. Говорили, что он был первым, кто стал требовать плату за стихи; практическая хватка Симонида вошла в историю изобретения им искусства памяти, завязкой которой стал договор о плате за оду. Еще одно нововведение приписывается ему Плутархом, который, по-видимому, полагал, что именно Симонид первым приравнял методы поэзии к методам живописи – воззрение, впоследствии кратко выраженное Горацием в его знаменитом изречении ut pictura poesis («поэзия – та же живопись»). Симонид, говорит Плутарх, «называл живопись безмолвной поэзией, а поэзию – говорящей живописью; ведь одни и те же действия, которые художник изображает в момент, когда они происходят, словами описываются как уже завершившиеся»[35 - Plutarch, Glory of Athens, 3; см. также: R. W. Lee, Ut pictura poesis: The Humanistic Theory of Painting, Art Bulletin, XXII (1940), p. 197.].
Что отцом сравнения поэзии с живописью называют Симонида, весьма примечательно, ведь так оно приводится к общему знаменателю с изобретением искусства памяти. По Цицерону, это изобретение основывается на открытии Симонидом превосходства зрения над всеми другими чувствами. Теория, приравнивающая поэзию к живописи, тоже основана на преобладании зрительного чувства; поэт и художник, оба мыслят визуальными образами: один выражает их в стихах, другой – в картинах. Неуловимые связи с другими искусствами, свойственные искусству памяти на протяжении всей его истории, намечены, таким образом, уже в его легендарных истоках, в рассказах о Симониде, трактовавшем поэзию, живопись и мнемонику в терминах интенсивной визуализации. Обратившись теперь на миг к Джордано Бруно, ключевой фигуре нашего исследования, мы увидим, что в одном из своих трудов по мнемонике он говорит о принципе использования образов в искусстве памяти в разделах «Фидий Скульптор» и «Зевксис Живописец», – под теми же заголовками он рассуждает и о теории ut pictura poesis[36 - См. ниже, с. 328.].
Симонид – культовый герой, основатель искусства памяти, которое является предметом нашего исследования; изобретение им этого искусства подтверждают не только Цицерон и Квинтилиан, но и Плиний, Элиан, Аммиан Марцеллин, Суда и др., а также одна древняя надпись. Паросская хроника, мраморная доска примерно 264 года до н. э., найденная на Паросе в XVII веке, приводит даты легендарных открытий, таких как изобретение флейты, введение земледелия Церерой и Триптолемом, опубликование поэзии Орфея; когда речь заходит о временах исторических, акцент делается на празднествах и присужденных на них наградах. Интересующая нас запись такова:
Со времени, когда кеосец Симонид, сын Леопрепа, изобретатель системы вспоможений памяти, получил приз хора в Афинах и когда были установлены статуи Гармодию и Аристогитону, 213 лет (т. е. 477 г. до н. э.)[37 - Цитируется по переводу в: Lyra Graeca, II, p. 249. См.: F. Jacoby, Die Fragmente der Griechischen Historiker, Berlin, 1929, II, p. 1000, а также Fragmente, Kommentar, Berlin, 1930, II, p. 694.].
Из других источников нам известно, что Симонид завоевал приз хора, будучи уже немолодым человеком: когда надпись наносилась на Паросский мрамор, победитель уже был известен как «изобретатель вспоможений памяти».
Мне кажется, можно верить тому, что Симонид действительно придал значительный импульс мнемонике, преподавая или публикуя правила, которые хотя и были, возможно, позаимствованы из ранней устной традиции, но производили впечатление нового понимания предмета. Мы не станем здесь обсуждать досимонидовские источники искусства памяти; некоторые указывают в этой связи на Пифагора, другие отсылают к египетским влияниям. Можно предположить, что в какой-то форме это искусство представляло собой очень древнюю технику, которая была в ходу у певцов и сказителей. Новшества, введенные, предположительно, Симонидом, могли быть признаком возникновения более высокоорганизованного общества. Поэты теперь занимают определенное экономическое положение, а мнемоника, практиковавшаяся в эпоху устной памяти, до появления письменности, кодифицируется в правилах. В эпоху перехода к новым культурным формам авторитет изобретателя обычно закрепляется за какой-либо выдающейся индивидуальностью.
Фрагмент, известный как Dialexeis («Сравнение доводов») и датируемый примерно 400 годом до н. э., содержит совсем небольшой раздел о памяти:
Память есть великое и прекрасное изобретение, всегда полезное и для обучения, и для жизни.
Вот первейшая вещь: если ты внимателен (направляешь свой ум), суждению легче постичь вещи, проходящие через него (ум).
Второе: повторяй услышанное, чтобы благодаря частому слышанию и произнесению одного и того же выученное тобой обрело завершенность в твоей памяти.
В-третьих, услышанное помещай к известному тебе. Например, нужно запомнить Chrysippos («Хрисипп»); мы разбиваем его на chrysos («золото») и hippos («лошадь»). Другой пример: мы размещаем pyrilampes («жук-светляк») между pyr («огонь») и lampein («светить»).
Это для имен.
Относительно вещей (поступай) так: мужество (помещай) к Марсу и Ахиллу; работу с металлами – к Вулкану; малодушие – к Эпею[38 - H. Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker, Berlin, 1922, II, p. 345. См.: H. Gomperz, Sophistik und Rhetorik, Berlin, 1912, p. 149, где дан перевод на немецкий.].
Память для вещей; память для слов (или имен)! Технические термины двух видов искусной памяти употреблялись уже в 400 году до н. э. И в том, и в другом случае используются образы; в одном представлению подлежат вещи, в другом – слова; это опять-таки одно из знакомых правил. Правда, нет правил для мест, но описанная здесь практика помещения понятия или слова, которое требуется запомнить, к тому или иному образу будет воспроизводиться во всей истории искусства памяти, и корни ее, очевидно, лежат в античности.
Таким образом, в общих чертах правила искусной памяти были известны уже спустя около полувека после смерти Симонида. Это позволяет предположить, что правила действительно были «изобретены» или кодифицированы им, – по преимуществу в том виде, в каком мы находим их в Ad Herennium, хотя и могли быть усовершенствованы и дополнены в более поздних текстах, остававшихся неизвестными, пока через четыре века они не попали в руки учителя-латинянина.
В этом древнейшем трактате об ars memorativa образы для слов формируются простым этимологическим рассечением слова. В приводимых примерах образов для вещей представлены такие «вещи», как добродетель и порок (доблесть, трусость), а также искусство (металлургия). Они запоминаются вместе с образами богов и людей (Марс, Ахилл, Вулкан, Эпей). Здесь мы, скорее всего, сталкиваемся с архаически простым видом тех представляющих «вещи» человеческих фигур, которые со временем разовьются в imagines agentes.
Считается, что во фрагменте Dialexeis отражено софистическое учение, и его раздел, посвященный памяти, возможно, связан с мнемоникой софиста Гиппия Элидского[39 - См.: Gomperz, pp. 179 ff.], о котором в псевдоплатоновских диалогах, носящих его имя, наряду с насмешками говорится, что он владел «наукой памяти» и гордился способностью запомнить пятьдесят произнесенных подряд имен, а также родословные героев и людей, даты основания городов и многое другое[40 - Greater Hippias («Гиппий больший»), 285d–286a; Lesser Hippias («Гиппий меньший»), 368d.]. Действительно, вполне правдоподобно, что Гиппий практиковал искусство памяти. Не исключено, что система софистического образования, против которой столь решительно выступал Платон, широко использовала новое «изобретение» ради поверхностного схватывания огромного числа самых разнообразных сведений. Замечателен и восторженный тон, которым открывается софистический трактат о памяти: «Память есть великое и прекрасное изобретение, всегда полезное и для обучения, и для жизни». Так было ли недавнее изобретение искусной памяти сколько-нибудь существенным элементом новой и успешно применяемой техники софистов?
Аристотель, без сомнения, был близко знаком с искусством памяти, о котором он упоминает четыре раза, но не как его толкователь (хотя Диоген Лаэртский сообщает, что он написал несохранившуюся книгу по мнемонике)[41 - Diogenes Laertius, Life of Aristotle («Жизнь Аристотеля»), в его Lives of the Philosophers («О жизни, учениях и изречениях великих философов»), V. 26. Трактатом, упомянутым в приводимом там перечне аристотелевских трудов, является, возможно, дошедший до нас De memoria et reminiscentia.], а при случае, когда иллюстрирует пункты рассуждений. Одно из этих упоминаний мы встречаем в Topica («Топике»), где он советует удерживать в памяти доводы, касающиеся вопросов, с которыми нам приходится сталкиваться чаще всего:
Ведь как у человека с тренированной памятью воспоминание о самих вещах моментально вызывается одним лишь упоминанием о занимаемых ими местах (topoi), так те же навыки лучше подготовят любого человека к рассуждению, поскольку он видит собственные предпосылки расставленными перед его умственным взором, каждую под своим номером[42 - Aristotle, Topica, 163b 24–30 (перевод А. У. Пикард-Кембриджа в: Works of Aristotle, ed. W. D. Ross, Oxford, 1928, Vol. I).].
Несомненно, эти topoi, которые используют люди с тренированной памятью, суть мнемонические loci, и вполне вероятно, что само слово «топики», как оно употребляется в диалектике, происходит от «мест» мнемоники. Топики – это «вещи», то есть предметы диалектического рассуждения, которые стали известны как topoi благодаря местам, в которые они помещались.
В De insomniis («О сновидениях») Аристотель говорит, что некоторым людям снятся сны, в которых они «как бы упорядочивают перед собой объекты в соответствии с собственной мнемонической системой»[43 - Aristotle, De insomniis, 458b 20–22 (перевод У. С. Хетта, в издании Лёба, где содержатся также De anima, Parva naturalia etc., 1935).] – надо полагать, это скорее предостережение против чрезмерного увлечения искусной памятью, плохо гармонирующее, однако, с тем тоном, каким сделано это замечание. В трактате De anima («О душе») есть похожее высказывание: «Существует возможность расположить вещи у нас перед глазами, как это делают те, кто изобретает мнемонические правила и создает образы»[44 - Aristotle, De anima, 427b 18–20 (перевод Хетта).].
Но важнейшее из этих четырех упоминаний, оказавшее наибольшее влияние на позднейшую историю искусства памяти, содержится в De memoria et reminiscentia («О памяти и припоминании»). Величайшие из схоластов, Альберт Великий и Фома Аквинский, чья острота ума общеизвестна, знали, что в De memoria et reminiscentia Философ говорит о том самом искусстве памяти, которому Туллий учит в своей «Второй Риторике» (Ad Herennium). Сочинение Аристотеля стало для них поэтому чем-то вроде трактата о памяти, сочетаемого с правилами Туллия и дающего этим правилам философское и психологическое оправдание.
Аристотелевская теория памяти и припоминания основана, таким образом, на теории знания, изложенной в De anima. Восприятия, доставляемые пятью чувствами, первоначально интерпретируются и обрабатываются способностью воображения, а затем уже оформленные образы становятся материалом для интеллектуальной способности. Воображение является посредником между восприятием и мышлением. Всякое знание в конечном счете выводится из чувственных впечатлений, но мышление имеет дело не с сырыми ощущениями, а с образами, уже обработанными, впитанными воображением. Именно та часть души, которая создает образы, дает работу высшим процессам мышления. Поэтому «душа никогда не мыслит без мысленных картин»[45 - Ibid., 431a 17.]; «мыслительная способность мыслит свои формы в мысленных картинах»[46 - Ibid., 431b 2.]; «никто не мог бы ни обучиться чему-либо, ни что-либо понять, если бы он не обладал способностью к восприятию; даже когда он мыслит спекулятивно, ему для того, чтобы мыслить, необходимо иметь перед собой некую мысленную картину»[47 - Ibid., 432а 9.].
Для схоластов и следующей им традиции памяти точкой согласования мнемонической теории с аристотелевской теорией знания была роль, которую та и другая отводили воображению. Аристотелевское положение о невозможности мыслить без мысленных картин постоянно приводилось в поддержку использования образов в мнемонике. Аристотель и сам прибегает к мнемоническим образам, иллюстрируя свои рассуждения о воображении и мышлении. Мыслить, говорит он, мы способны, когда только захотим, «поскольку существует возможность расположить вещи у нас перед глазами, как это делают те, кто изобретает мнемонические правила и создает образы»[48 - Уже цитировано выше.]. Тщательный отбор мысленных картин, сопровождающих мышление, он сравнивает с тщательным построением мнемонических образов, с помощью которых происходит запоминание.
De memoria et reminiscentia является приложением к De anima и открывается цитатой из этого труда: «Как уже было сказано в моей книге „О душе“ по поводу воображения, мыслить без мысленных картин вообще невозможно»[49 - Aristotle, De memoria et reminiscentia, 449b 31 (перевод У. С. Хетта в цитируемом издании Лёба, как часть Parva Naturalia).]. Память, продолжает Аристотель, принадлежит к той же части души, что и воображение; она есть собрание мысленных картин, извлеченных из чувственных впечатлений, но с добавлением элемента времени, поскольку в памяти мысленные картины порождаются восприятием вещей не присутствующих в настоящем, а ушедших в прошлое. Поскольку память связана таким образом с чувственным впечатлением, она присуща не только человеку; некоторые животные тоже способны запоминать. Однако в памяти задействован еще и интеллект, поскольку мысль работает в ней над образами чувственного восприятия.
Мысленную картину, полученную от чувственного впечатления, Аристотель уподобляет нарисованному портрету, «долговечность которого мы описываем как память»[50 - Aristotle, De memoria et reminiscentia, 450a 30.], а формирование ментального образа понимается им как движение, подобное тому, которым кольцо с печаткой производит оттиск на воске. Сохраняется ли впечатление в памяти надолго или вскоре изглаживается, зависит от возраста и темперамента личности:
У некоторых людей значительные происшествия не оседают в памяти из?за болезни или возраста, как если бы чертили или ставили печать на водном потоке. У них знак не оставляет впечатления, поскольку они износились, как старые стены зданий, или поскольку затвердело то, что должно было принять впечатление. По этой причине у младенцев и стариков плохая память; они пребывают в состоянии постоянного изменения: младенец – поскольку он растет, старец – поскольку увядает. По схожей причине хорошей памятью, по-видимому, не обладают ни слишком подвижные, ни слишком медлительные люди: первые более влажны, чем следует, вторые – более сухи; у первых картина лишена постоянства, у вторых – не оставляет впечатления[51 - Ibid., 450b 1–10.].
Аристотель различает память и реминисценцию, или припоминание. Припоминание есть восстановление знания или ощущения, которое у нас уже было. Это напряженное усилие, направленное на то, чтобы найти наш путь среди всех содержаний памяти, выслеживание того, что мы пытаемся припомнить. В этом усилии Аристотель выделяет два связанных между собой принципа. Это принцип ассоциации, как его называем мы, хотя сам Аристотель не употребляет этого слова, и принцип порядка. Начиная с «чего-либо подобного, или противоположного, или тесно связанного»[52 - Ibid., 451b 18–20.] с искомым, мы выйдем на него. Этот пассаж характеризовался как первая формулировка законов ассоциации через подобие, неподобие или смежность[53 - См.: W. D. Ross, Aristotle, London, 1949, p. 144; также примечания Росса к этому отрывку в его издании: Parva Naturalia, Oxford, 1955, p. 245.]. Требуется также восстановить порядок событий или впечатлений, который приведет нас к тому, что мы ищем, поскольку движения припоминания следуют порядку первоначальных событий и поскольку легче всего запоминаются упорядоченные вещи, как, например, положения математики. Но у нас должна быть отправная точка, чтобы, припоминая, было от чего оттолкнуться.
Часто бывает, что человек не может припомнить что-либо сразу, но, поискав, находит желаемое. Это происходит, когда человек поддается множеству порывов, пока наконец не наткнется на тот, который приведет его к искомой цели. Ведь воспоминание в действительности зависит от потенциально существующей стимулирующей причины… Но он должен придерживаться отправной точки. По этой причине некоторые с целью припоминания используют места (topoi). Основание этому в том, что человек быстро переходит от одного шага к другому: например, от молока к белому, от белого к воздуху, от воздуха к сырости; тут-то нам и вспоминается осень, если предположить, что мы пытались вспомнить это время года[54 - De mem. et rem., 452a 8–16.].
Здесь ясно видно, что Аристотель обращается к местам искусной памяти, чтобы проиллюстрировать свои замечания о роли ассоциации и порядка в процессе припоминания. Но в остальном, как отмечают издатели и комментаторы, смысл этого отрывка проследить очень трудно[55 - Обсуждение этого места у Аристотеля см. в примечании Росса к его изданию Parva Naturalia, p. 246.]. Возможно, шаги, которыми мы быстро переходим от молока к осени – если мы пытаемся припомнить это время года, – обусловливаются космической связью стихий с временами года. Или же рукопись повреждена, и этот отрывок как он есть вообще не поддается пониманию.