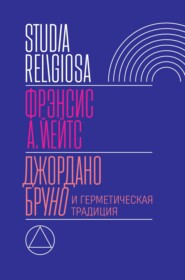По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Искусство памяти
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Закончив изложение правил для мест, мне хотелось бы отметить, что больше всего меня поражает необычайная точность зрительного восприятия, какой они требуют. В классической трактовке искусной памяти расстояние между loci может быть измерено, учитывается также и степень их освещенности. В этих правилах предъявлен позабытый ныне способ видения. Кто же этот человек, медленно проходящий по опустевшему зданию и останавливающийся время от времени с выражением задумчивости на лице? Это начинающий ритор, занятый подбором ряда loci для своей памяти.
«О местах было сказано достаточно, – продолжает автор Ad Herennium, – обратимся теперь к теории образов». Далее следуют правила для образов, первое из которых гласит, что существуют два вида образов: один – для «вещей» (res), другой – для «слов» (verba). Это означает, что память для вещей использует образы, напоминающие о каком-либо доводе, понятии или «вещи», а память для слов подбирает образы, позволяющие вспомнить каждое отдельное слово.
Здесь я ненадолго прерву поспешающего автора, чтобы напомнить читателю, что для студента-ритора «вещи» и «слова» были абсолютно точно определены в своем значении при пятичастном делении риторики. Эти пять частей устанавливаются Цицероном в следующем порядке:
Нахождение есть отыскание вещей (res) истинных или подобных истинным, чтобы причина их представлялась правдоподобной; расположение есть упорядочение открытых таким образом вещей; выражение есть приспособление подходящих слов к найденным (вещам); запоминание есть надежное восприятие в душе вещей и слов; произнесение есть приведение голоса и тела в соответствие с достоинством вещей и слов[7 - Cicero, De inventione, I, vii, 9 (перевод основан на выполненном Х. М. Хаббеллом в издании Лёба, но более точно воспроизводит технические термины res и verba).].
Таким образом, «вещи» – это предметное содержание речи, «слова» же – это язык, в который это предметное содержание облечено. Испытываете ли вы нужду в искусной памяти только для того, чтобы запомнить порядок следования понятий, доводов, «вещей», из которых складывается ваша речь? Или вы стремитесь в нужном порядке запомнить каждое слово? Первая из упомянутых разновидностей памяти есть memoria rerum; вторая – memoria verborum. Следуя определению, данному Цицероном в приведенном фрагменте, идеалом было бы иметь в душе «надежное восприятие» как вещей, так и слов. Но «память для слов» значительно более трудоемка, чем «память для вещей»; очевидно, начинающие риторы из той слабосильной братии, для которой автор Ad Herennium составил это пособие, с большим трудом удерживали в памяти образы для отдельных слов, да и сам Цицерон, как мы позднее увидим, признавал, что можно удовольствоваться одной лишь «памятью для вещей».
Вернемся к правилам образов. Нам уже были предложены правила мест: какие именно места следует подбирать для запоминания. Каковы же правила, определяющие выбор образов, которые следует располагать в этих местах памяти? Мы приближаемся сейчас к одному из самых любопытных и удивительных мест трактата, где автор приводит психологические основания выбора мнемонических образов. Почему оказывается, спрашивает он, что одни образы столь ярки и отчетливы, столь пригодны для пробуждения памяти, в то время как другие столь слабы и немощны, что вообще вряд ли могут воздействовать на нее? Мы должны разобраться в этом, чтобы узнать, какие образы следует отвергать, а к каким – стремиться.
Ибо природа сама учит нас тому, что мы должны делать. Видя в повседневной жизни ничем не примечательные, обыкновенные, банальные вещи, мы вообще не запоминаем их, потому что наш ум не побуждается к этому чем-либо новым или чудесным. Но если мы видим или слышим что-то чрезвычайно необычное, подлое, бесчестное, великое, невероятное или смешное, мы, скорее всего, надолго это запомним. Мы также часто забываем вещи, привычные для наших ушей и глаз, но, как правило, лучше всего помним события нашего детства. И причина этого заключается не в чем ином, как в том, что привычные вещи с легкостью ускользают из памяти, в то время как все новое и захватывающее дольше сохраняется в уме. Восход солнца, его движение по небосводу и закат ни для кого не удивительны, потому что повторяются изо дня в день. Но солнечные затмения вызывают изумление, потому что случаются редко, и на самом деле они более чудесны, чем лунные, которые гораздо более часты. Таким образом, природа сама показывает, что она пробуждается не обыкновенными событиями, а новыми и захватывающими происшествиями. Так пусть же искусство подражает природе, находит то, к чему она стремится, и следует в том направлении, которое она указывает. Ибо для нахождения природа вовсе не последнее дело, а образованность – не первое; начала вещей возникают, скорее, из природного таланта, а завершение их достигается благодаря дисциплине.
Мы должны, следовательно, обеспечить себя такими образами, которые могут дольше всего удерживаться в памяти. Так мы и будем поступать, устанавливая по возможности наиболее выразительные подобия: располагая по местам не бледные и маловыразительные образы, а активные (imagines agentes), пусть и не столь многочисленные; наделяя их невиданной красотой или отвратительным уродством, увенчивая некоторые из них короной или облачая в пурпурную мантию, чтобы подобие стало более заметным для нас; или как-нибудь искажая их, используя, к примеру, образы, запятнанные кровью, перепачканные грязью или красной краской, чтобы их вид производил более необычное впечатление; или сопровождая образы неким комическим эффектом, ибо это также облегчит нам их припоминание. Те вещи, которые мы легко припоминаем, когда они реальны, мы также без труда припомним и в том случае, когда они будут представлять собой лишь вымысел. Но главное – снова и снова обегать в памяти все начальные места, чтобы освежить помещенные в них образы[8 - Ad Herennium, III, xxii.].
Наш автор, очевидно, придерживается той точки зрения, что припоминанию помогает пробуждение эмоциональных аффектов благодаря воздействию этих поразительных и необычных образов, прекрасных и отвратительных, комичных и непристойных. Ясно также, что он имеет в виду образы людей, человеческие фигуры, увенчанные короной или облаченные в пурпурную мантию, запятнанные кровью или запачканные краской, образы людей, страстно вовлеченных в какую-либо деятельность. Мы оказываемся в каком-то удивительном мире, когда обходим его места вместе со студентом-ритором и представляем себе на этих местах столь необычные образы. Квинтилиановы образы памяти, якорь и меч, хотя и намного менее удивительны, зато более доступны пониманию, чем та населенная таинственными обитателями память, с которой знакомит нас автор Ad Herennium.
Одна из многочисленных трудностей, с которыми сталкивается историк искусства памяти, состоит в том, что чаще всего трактат, посвященный ars memorativa, хотя и стремится изложить его правила, редко приводит примеры конкретного применения этих правил, иными словами, редко предоставляет вниманию читателя систему мнемонических образов, расставленных по своим местам. Эта традиция берет начало от самого автора Ad Herennium, который заявляет, что обязанности наставника в мнемоническом искусстве состоят в том, чтобы преподать метод создания образов, привести несколько примеров и затем побудить ученика к созданию собственных образов. Предлагая «введение», говорит он, учитель не обязан составлять особые введения для тысячи различных случаев и требовать от ученика заучивать их наизусть; он преподает ему метод, после чего ученик должен положиться на собственную изобретательность. Так следует поступать и при обучении мнемоническим образам[9 - Ibid., III, xxiii, 39.]. Этот наставнический принцип замечателен, хотя можно и пожалеть о том, что он не позволяет автору показать нам всю последовательность, всю галерею удивительных и необычных imagines agentes. Нам придется довольствоваться тремя примерами, описание которых он приводит.
Первым идет пример образа «памяти для вещей». Представим себе, что мы выступаем в качестве защитника на судебном процессе. «По словам обвинителя, подзащитный отравил свою жертву ядом; можно предположить, что мотивом преступления было стремление получить наследство; имеется также множество свидетелей и соучастников этого преступления». Мы формируем систему памяти применительно ко всему этому делу и хотим поместить в первый locus нашей памяти какой-нибудь образ, который напоминал бы обвинение, выдвинутое против нашего клиента. Допустим, такой:
Если мы лично знали человека, о котором идет речь, представим его больным и лежащим в постели. Если же мы не были знакомы с ним, выберем кого-нибудь на роль нашего больного, только не человека из низших слоев, чтобы мы могли сразу его вспомнить. У края постели мы поместим подзащитного, держащего в правой руке кубок, в левой – восковые таблички, а на безымянном пальце этой руки – бараньи яички. Благодаря этому образу мы запомним, что человек был отравлен, что тому есть свидетели и что причиной была возможность получения наследства[10 - Ad Herennium, III, xx, 33. По поводу перевода medico testiculos arietinos tenentem как «на безымянном пальце держащий бараньи яички» см. примечание переводчика в издании Лёба, р. 214. Digitus medicinalis – название безымянного пальца левой руки. Средневековые интерпретаторы, не понимая слова medico, вводили в эту сцену врача; см. ниже, с. 94.].
Кубок напоминал бы об отравлении, таблички – о завещании или наследстве, а бараньи яички (testiculi, по созвучию с testes) – о свидетелях. Больной должен напоминать или самого отравленного, или кого-либо другого, с кем мы знакомы (но не из среды безликих низших классов). В последующие loci мы поместили бы остальные части обвинения или другие подробности рассматриваемого случая и, правильно запечатлев в памяти эти места и образы, с легкостью вспомнили бы любое обстоятельство дела, к которому захотели бы вернуться.
Итак, перед нами пример классического образа памяти, составленного из человеческих фигур – деятельных, страстных, интригующих – и оснащенного деталями, которые позволяют вспомнить всю «вещь», запечатленную в памяти. Но хотя все тут будто бы разъяснено, я все же испытываю сомнения в действенности этого образа. Кажется, что, как и многое из того, что говорится в Ad Herennium о памяти, он отсылает нас к миру, который либо вообще непостижим, либо не стал еще вполне для нас понятным.
В этом примере автор заботится не о припоминании речей, уместных в разбираемом случае, а о записи подробностей, или «вещей», связанных с ним. Все выглядит так, словно какой-нибудь юрист составляет в памяти картотеку подобных дел. Приведенный факт помещен как ярлык в самом начале этой картотеки памяти, где хранятся сведения о человеке, обвиненном в отравлении. Юрист хочет отыскать что-либо, относящееся к данному случаю, и обращается к составленному им образу, в котором этот случай запечатлен, а за этим образом, в последующих местах, находит все остальное. Если такая интерпретация, вообще говоря, корректна, искусная память могла использоваться не только для запоминания речей, но и для хранения массы самого разнообразного материала, который можно было по желанию найти в любое время.
Слова Цицерона, описывающего в De oratore преимущества искусной памяти, могут служить подтверждением этой интерпретации. Только что он говорил, что места хранят порядок фактов, а образы обозначают сами факты, и что мы пользуемся местами и образами как восковыми табличками для письма и написанными на них буквами. «Но к чему мне, – продолжает он, – говорить об особом значении памяти для оратора, о ее пользе и действенности; о значении удержания в памяти сведений, полученных вами, когда вам было поручено данное дело, и того мнения, которое вы сами составили о нем; о пользе прочной укорененности идей в вашем уме и искусного упорядочения всего вашего словарного запаса, об уделении столь пристального внимания поручениям вашего доверителя и речи противной стороны, на которую вам предстоит отвечать, как если бы они не слуху вашему сообщали свои речи, но запечатлевали их прямо в вашем уме? Ведь только люди, обладающие мощной памятью, знают, что именно они собираются сказать, как долго они намерены говорить и в каком стиле, на какие пункты обвинения они уже дали ответ и какие еще остались; они могут привести также многие аргументы, которые выдвигали в прежних делах, и те, о которых слышали от других людей»[11 - De oratore, II, lxxxvii, 355.].
Нам открываются здесь удивительные возможности памяти, и, по свидетельству Цицерона, тренировка памяти, описанная в Ad Herennium, действительно способствовала усовершенствованию этих природных ее сил.
Описанный выше пример образа относится к образам «памяти для вещей»; он предназначался для запоминания «вещей», или фактов, относящихся к рассматриваемому делу, а в последующих loci этой системы, предположительно, удерживались другие образы «памяти для вещей», с помощью которых запоминались остальные факты, касающиеся этого дела, а также доводы, использованные в речах защиты и обвинения. Другие два примера из Ad Herennium относятся к образам «памяти для слов».
Ученик, стремящийся овладеть «памятью для слов», начинает с того же, что и обучающийся «памяти для вещей», то есть запоминает места, в которых будут храниться его образы. Однако задача его более трудна, ведь для запоминания всех слов речи потребуется гораздо большее число мест, чем для запоминания предметов, о которых в ней говорится. Примеры образов «памяти для слов» относятся к тому же типу, что и приведенный выше образ «памяти для вещей», то есть образы эти представляют собой притягивающие к себе внимание, необычные по своему характеру человеческие фигуры, действующие в захватывающих, драматических ситуациях – imagines agentes.
Итак, нам нужно запомнить следующую стихотворную строку:
Iam domum itionem reges Atridae parant[12 - Ad Herennium, III, xxi, 34. См. примечания переводчика на с. 216–217 в издании Лёба.]
(Ныне вернуться домой готовятся принцы-Атриды)
Эта строка известна только по цитате в Ad Herennium и либо сочинена самим автором в целях демонстрации своей мнемонической техники, либо взята из какого-то утраченного источника. Запоминается она с помощью двух крайне необычных образов.
Вот первый из них: «Домиция, воздевшего руки к небу, побивают плетьми Рексы из рода Марциев». Переводчик и издатель текста в библиотеке Лёба, Х. Каплан, сообщает в примечании, что «имя Рексов носила одна из наиболее знатных семей в роду Марциев; Домиции, хотя и плебеи по происхождению, тоже были прославленным родом». Этот образ мог быть навеян какой-нибудь уличной сценой, когда, например, Домиций из плебейского рода (быть может, перепачканный кровью, что делало образ более запоминающимся) был избит представителями знатной семьи Рексов. Возможно, автор сам был свидетелем этого происшествия. А может быть, это была сцена из какого-нибудь спектакля. В любом случае она была захватывающей и потому годилась для мнемонического образа. Ее и следовало разместить в памяти для запоминания вышеприведенной строки. Яркий образ сразу же доводил до сознания связь Domitius – Reges и в силу звукового подобия позволял вспомнить слова domum itionem reges. Так раскрываются принципы построения образа «памяти для слов», который помогает вспомнить искомые слова благодаря их звуковому подобию именам предметов, представленных в образе.
Все мы хорошо знаем, сколь действенную помощь для отыскания в памяти нужного слова или имени может оказать какая-нибудь совершенно бессмысленная или случайная ассоциация, что-нибудь «застрявшее» в памяти. Классическим искусством это явление было приведено в систему.
Второй образ, предназначенный для запоминания оставшейся части строки, таков: «Эзоп и Кимбер, одетые в костюмы Агамемнона и Менелая из „Ифигенеи“ (Iphigenaia). Эзопом звали популярного трагического актера, друга Цицерона; Кимбер – судя по всему, тоже актер – упоминается только в Ad Herennium[13 - Издание Лёба, примечание переводчика, с. 217.]. Трагедия, в которой они готовятся исполнить свои роли, также неизвестна. Образ представляет этих актеров одетыми как сыновья Атрея, Агамемнон и Менелай. Любопытствующему взгляду за кулисами предстают два известных исполнителя, уже загримированные (согласно правилам, образ лучше запоминается, если он измазан красной краской) и одетые для своих ролей. Такая сцена содержит все, что необходимо для мнемонического образа, поэтому мы используем ее для запоминания слов Atridae parant. Этот образ сразу вызывает в памяти слово Atridae (пусть и без содействия звукового подобия) и напоминает о том, что они готовятся к возвращению домой, демонстрируя готовность актеров к выходу на сцену.
Такой метод запоминания стихов, утверждает автор Ad Herennium, не будет работать сам по себе. Мы должны прочесть стихотворение три или четыре раза, то есть выучить его наизусть обычным способом, и лишь тогда сможем представлять слова посредством образов. «Таким образом, искусство будет дополнять природу. Ибо само по себе ни то ни другое не обладает достаточной силой, хотя следует заметить, что теория и техника гораздо более надежны»[14 - Ad Herennium, loc. cit.]. Тот факт, что мы должны заучить стих еще и наизусть, вызывает несколько больше доверия к «памяти для слов».
Размышляя над образами «памяти для слов», мы замечаем, что наш автор, похоже, заботится теперь не о припоминании речей, прямой задаче студентов-риторов, а о запоминании стихов из поэм или драматических произведений. Чтобы запомнить таким способом всю поэму или драму, ученик должен заготовить в своей памяти «места», простирающиеся, можно сказать, на многие мили, «места», которые он обходил бы, декламируя, и из которых извлекал бы мнемонические подсказки. И, быть может, слово «подсказка» дает ключ к тому, как заставить этот метод работать. Не заучивалась ли поэма и в самом деле наизусть, и лишь в некоторых местах, через промежутки, подчиненные некой стратегии, располагались эти образы-подсказки?
Наш автор упоминает о том, что греками был разработан и другой тип символов «памяти для слов»: «Я знаю, что большинство греков, писавших о памяти, избрали путь составления перечней образов, коим соответствовало великое множество слов, так что тот, кому вздумалось бы запомнить эти образы, нашел бы их готовыми, не тратя сил на поиски»[15 - Ibid., III, xxiii, 38.]. Возможно, эти греческие образы для слов представляли собой скорописные символы, или notae, использование которых входило в то время в моду и у латинян[16 - По свидетельству Плутарха, Цицерон ввел в Риме скоропись; имя его вольноотпущенника Тирона стало ассоциироваться с так называемыми «Тироновыми знаками». См.: The Oxford Classical Dictionary, art. Tachygraphy; H. J. M. Milne, Greek Shorthand Manuals, London, 1934, introduction. Между появлением в латинском мире греческой мнемоники (что нашло свое отражение в Ad Herennium) и введением примерно в то же время скорописи может существовать какая-то связь.]. Применительно к мнемонике это могло означать, что при помощи своего рода внутренней стенографии скорописные символы записывались в уме и запоминались в местах памяти. К счастью, наш автор отвергает этот метод, поскольку даже тысяча таких символов не смогла бы покрыть и ничтожной части всех используемых слов. В самом деле, он скорее снисходителен в отношении «памяти для слов», что бы о ней ни говорилось; ей следует усердно заниматься хотя бы потому, что она значительно сложнее «памяти для вещей». Она должна использоваться в качестве упражнения для укрепления «другого вида памяти, памяти для вещей, имеющей практическое значение. Таким образом, поднаторев в этих трудных упражнениях, мы сможем с легкостью пользоваться тем, другим видом памяти».
Раздел, посвященный памяти, заканчивается призывом к напряженному труду: «Во всякой дисциплине теория мало чем полезна без непрерывного упражнения, особенно же в мнемотехнике теория почти ничего не значит, пока ей не сопутствует прилежание, рвение, напряженный труд и забота. Вы можете быть уверены в том, что располагаете по возможности наибольшим числом мест и что они полностью соответствуют правилам, но в размещении этих образов вы должны упражняться ежедневно»[17 - Ad Herennium, III, xxiv, 40.].
Мы попытались осмыслить ту внутреннюю гимнастику, ту незримую работу концентрации, которая более всего для нас поразительна, хотя правила и примеры из Ad Herennium загадочным образом дают возможность познакомиться со способностями и организацией памяти в эпоху античности. Мы размышляем о чудесах памяти, которые дошли до нас в рассказах древних; о том, как старший Сенека, учитель риторики, мог повторить две тысячи имен в том порядке, в каком они были названы, или о том, как ему удавалось – после того как ученики, составлявшие класс из двухсот или более человек, произносили по очереди каждый по одной стихотворной строке, – продекламировать все эти строки в обратном порядке, от самой последней до самой первой[18 - Marcus Annaeus Seneca, Controversiarum Libri, Lib. I, Предисл., 2.]. Или вспоминаем, что Августин, тоже сведущий в риторике, рассказывает о своем друге по имени Симплиций, который мог декламировать Вергилия, произнося строки в обратном порядке[19 - Augustinus, De anima, lib. IV, cap. vii.]. Из нашего пособия мы усвоили, что, если нами правильно и твердо установлены места памяти, мы можем двигаться по ним в любом направлении – и вперед, и назад. Искусная память помогает понять внушающую благоговейный трепет способность декламировать поэмы в обратном порядке, которой обладали Сенека Старший и Симплиций, друг Августина. Хотя такие подвиги могут казаться нам бессмысленными, они все же дают представление о том почтении, какое в древности оказывалось человеку с тренированной памятью.
Это незримое искусство памяти весьма своеобразно. В нем отражается античная архитектура, но неклассическая по духу; выбор чаще всего падает на необычные места, не соблюдается порядок симметрии. Память полнится образами людей с ярко выраженными индивидуальными чертами: десятое место мы помечаем лицом нашего друга Децима; мы видим нескольких наших знакомых, выстроившихся в ряд; больного мы представляем себе как вполне определенного человека и если незнакомы с ним, то заменяем его тем, кого мы знаем. Эти человеческие фигуры предстают активно жестикулирующими и в драматичных позах, поражают красотой или уродством. Они больше напоминают статуи в готическом соборе, а не классическое искусство. Кажется, они лишены всякого морального значения, их функция сводится исключительно к приданию памяти эмоционального толчка, к ее возбуждению действием индивидуальных черт и странностей характера. Однако своим возникновением это впечатление обязано, быть может, тому обстоятельству, что нам не был приведен пример образа, с помощью которого можно вспомнить такие «вещи», как справедливость и умеренность или их части, о которых автор Ad Herennium говорит в разделе о нахождении предметов речи[20 - Ad Herennium, III, iii.]. Способность искусства памяти все время ускользать от понимания весьма утомительна для того, кто пишет его историю.
Хотя средневековая традиция оказалась неправа, приписывая авторство Ad Herennium «Туллию», она все же не ошибалась, полагая, что последний сам практиковал и рекомендовал ученикам овладевать искусством памяти. В сочинении De oratore (оконченном в 55 году до н. э.) Цицерон трактует пять частей риторики в свойственной ему изящной, обстоятельной и учтивой манере, весьма отличной от сухого стиля нашего учителя риторики, и ссылается в этом труде на мнемоническое искусство, основанное, по всей видимости, на тех же самых технических приемах, что и мнемоника, описанная в Ad Herennium.
Впервые мнемоника упоминается в речи Красса из первой книги, где он говорит, что вовсе не испытывает неприязни «к тому методу мест и образов, что преподается в искусстве»[21 - De oratore, I, xxxiv, 157.], поскольку он полезен для памяти. Позднее Антоний рассказывает о том, что Фемистокл не желал изучать искусство памяти, «которое в ту пору было введено впервые», говоря, что предпочитает науке запоминания науку забывания. Антоний предупреждает, что эти легкомысленные слова не должны «понудить нас пренебречь искусством памяти»[22 - Ibid., II, lxxiv, 299–300.]. Таким образом, читатель оказывается подготовлен к мастерскому изложению истории о роковом пире, на котором Симонид изобрел свое искусство, – истории, с которой я начала эту главу. В ходе последующего рассуждения об искусстве памяти Цицерон приводит сокращенную версию правил:
Следовательно (чтобы не докучать в предмете привычном и хорошо знакомом), нужно иметь в своем распоряжении большое число мест, хорошо освещенных, расположенных в строгом порядке и на некотором расстоянии друг от друга (locis est utendum multis, illustribus, explicatis, modicis intervallis); а также образы – активные, четко очерченные, необычные, такие, которые могут встретиться с душой и проникнуть в нее (imaginibus autem agentibus, acribus, insignitis, quae occurrere celeriterque percutere animum possint)[23 - De oratore, II, lxxxvii, 358.].
Он сократил количество правил мест и образов до минимума, чтобы не наскучить читателю повторением содержащихся в учебниках наставлений, столь хорошо знакомых и привычных.
Далее он в несколько туманных выражениях говорит о крайне усложненных типах памяти для слов:
Способность использовать эти (образы) разовьется благодаря практике, в которой вырабатывается привычка, благодаря (образам) похожих слов, изменяющихся или не изменяющихся по падежам, или переходящих от (называния) части к называнию рода, а также благодаря использованию образа одного слова для припоминания целой фразы, как искусный художник различает положение предметов по видоизменению их форм[24 - Ibid., loc. cit.].
Затем Цицерон говорит о том типе памяти для слов, который автор Ad Herennium называл «греческим» и в котором делается попытка запомнить отдельный образ для каждого слова, но, как и наш безымянный автор, приходит к заключению, что память для вещей представляет собой наиболее полезную для оратора отрасль искусства.
Память для слов, которая нам тоже важна, приобретает отчетливость благодаря большему разнообразию образов (в противоположность использованию образа одного слова для всей фразы, о котором он только что говорил. – Ф. Й.); ибо многие слова подобны суставам, соединяющим члены фразы, и их нельзя образовать никакими подобиями – для них нам приходится формировать образы, которые будут использоваться постоянно; но память для вещей особенно важна для оратора: здесь мы запечатлеваем вещи в нашем уме с помощью умелого размещения особых масок (singulis personis), которые их представляют, так что можем схватывать идеи с помощью образов, а их порядок – с помощью мест[25 - Ibid., II, lxxxviii, 359.].
Употребление слова persona в трактовке образа памяти для вещей весьма любопытно. Не означает ли оно, что необычное впечатление, производимое образом памяти, усиливается, если подчеркивается его трагический или комический аспект, как это происходит, когда актер выступает в маске? Не свидетельствует ли оно о том, что театр был тем возможным источником, из которого черпались яркие образы памяти? Или это слово в данном контексте означает, что памятный образ похож на какого-нибудь знакомого человека (на что указывает и автор Ad Herennium), но носит эту персональную маску лишь для того, чтобы пробудить нашу память?
У Цицерона получается, таким образом, небольшой трактат об ars memorativa, где в крайне сжатом виде собраны все связанные с ним вопросы в их обычном порядке. Изложив историю Симонида, он заявляет, что искусство складывается из мест и образов, и уподобляет его внутреннему письму на воске, после чего приступает к рассмотрению естественной и искусной памяти и приходит к известному выводу, что природа может быть улучшена при помощи искусства. Далее следуют правила мест и правила образов, за ними – разбор памяти для вещей и памяти для слов. Хотя Цицерон и соглашается с тем, что только память для вещей может оказать оратору существенную поддержку, ясно, что сам он прошел и школу памяти для слов, где образы для слов двигаются (?), изменяются по падежам (?), где целая фраза благодаря какой-то необычной внутренней визуализации оказывается заключена в образе одного слова, который он сравнивает с произведением искусного художника.
И лгут люди неученые (quod ab inertibus dicitur), когда утверждают, что память гибнет под тяжестью образов и даже то, что удалось запомнить благодаря одной лишь природе, погружается во тьму; ибо я встречал выдающихся мужей, обладавших почти божественной по силе памятью (summos homines et divina prope memoria): Хармада в Афинах и Метродора Скепсийского в Азии, о котором говорят, что он до сих пор жив, и каждый из них рассказывал мне, что он записывает то, что хочет запомнить, в определенных местах, которыми он располагает, при помощи образов, как бы запечатлевая буквы на воске. Значит, эта практика не поможет развиться памяти, если она не дана от природы, но, несомненно, заставит ее проявиться, если она только скрывается[26 - De oratore, II, lxxxviii, 360.].
Из этих заключительных слов Цицерона об искусстве памяти нам становится ясно, что возражения против классического искусства, которые возникали на протяжении всей его истории – и до сих пор возникают у всякого, кто знакомится с ним, – высказывались уже в античности. Во времена Цицерона встречались люди инертные, ленивые или неученые, которые разделяли точку зрения здравого смысла (которую всем сердцем разделяю и лично я, поскольку, как уже было сказано, я только пишу историю этого искусства, но не являюсь его приверженцем) – точку зрения, согласно которой все эти места и образы погребут, словно под грудой камней, то, что слабому человеку под силу запомнить естественным путем. Цицерон же доверяет этому искусству и защищает его. Очевидно, от природы он обладал невероятно острой зрительной памятью.
Что же мы должны думать о тех выдающихся мужах, Хармаде и Метродоре, с которыми встречался Цицерон и память которых была «почти божественной» по силе? Будучи оратором с феноменально развитой памятью, Цицерон был к тому же платоником по своим философским воззрениям, а для платоников память обладала особым значением. Что же имеет в виду оратор и философ-платоник, говоря о чьей-либо памяти, что она «почти божественна»?
Имя загадочного Метродора Скепсийского еще не раз встретится на последующих страницах этой книги.
Самым ранним риторическим сочинением Цицерона был трактат De inventione («О нахождении»), который он написал за тридцать лет до De oratore, то есть примерно в то самое время, когда неизвестный автор Ad Herennium составил свое краткое руководство. В De inventione мы не находим ничего нового об искусстве памяти, поскольку речь там идет только о первой части риторики, а именно об inventio, о нахождении или составлении предметного содержания речи, о собирании тех «вещей», о которых в ней будет говориться. Тем не менее это сочинение сыграло, по всей видимости, очень важную роль во всей дальнейшей истории искусства памяти, поскольку именно благодаря цицероновскому определению добродетелей, содержащемуся в De inventione, искусная память стала в средние века составной частью кардинальной добродетели благоразумия.
В конце De inventione Цицерон определяет добродетель как «некий склад ума, находящийся в гармонии с рассудком и порядком природы»; таково определение добродетели у стоиков. Затем он говорит, что добродетель складывается из четырех частей: благоразумия, справедливости, мужества и умеренности. Каждую из четырех основных добродетелей он также разделяет на части. Вот как определяется им благоразумие и его составляющие:
Благоразумие есть знание того, что есть добро, и что – зло, а также того, что не есть ни то ни другое. Его составные части – память, рассудительность и предусмотрительность (memoria, intelligentia, providentia). Память есть способность, благодаря которой ум воспроизводит события прошлого. Рассудительность есть способность, благодаря которой он удостоверяется в том, что есть. Предусмотрительность есть способность, благодаря которой он видит, что нечто должно произойти, еще до того, как оно действительно происходит[27 - De inventione, II, iii, 160 (пер. Х. М. Хаббелла в издании Лёба).].
Цицероновы дефиниции добродетелей и их частей, содержащиеся в De invetione, оказались весьма важным источником для формирования тех понятий, которые впоследствии стали известны под именем четырех кардинальных добродетелей. Дефиниции, данные «Туллием» трем частям благоразумия, цитируют Альберт Великий и Фома Аквинский, когда рассуждают о добродетелях в своих Summae. И то обстоятельство, что «Туллий» определил память как часть благоразумия, заняло главное место в их похвалах искусной памяти. Довод отличался замечательной симметрией, поскольку в средние века Туллия почитали и как автора De inventione, и как создателя Ad Herennium; эти сочинения были известны соответственно как его «Первая» и «Вторая Риторика». В своей «Первой Риторике» Туллий заявляет, что память является частью благоразумия; во «Второй» он говорит, что естественная память может быть усовершенствована с помощью искусной. Поэтому нужно практиковать искусную память как часть добродетели благоразумия. Альберт и Фома цитируют и обсуждают правила искусной памяти именно потому, что память является частью благоразумия.
Процесс, в ходе которого искусная память была перенесена схоластикой из риторики в этику, будет более подробно рассмотрен в одной из следующих глав[28 - См. ниже, гл. III.]. Пока я лишь кратко коснусь этого предмета, потому что у кого-нибудь может возникнуть вопрос, принадлежит ли этическая трактовка искусной памяти, связывающая ее с благоразумием, целиком средним векам, или она тоже уходит своими корнями в античность. Стоики, как известно, придавали большое значение тому, чтобы фантазия была ограничена моралью; этот моральный контроль они считали важной частью этики. Как я уже говорила выше, мы не можем узнать, в каком виде эти «вещи» – благоразумие, справедливость, мужество и умеренность, а также их части – появлялись в искусстве памяти. Быть может, благоразумие, например, принимало некую поражающую своей красотой мнемоническую форму, представало под личиной (persona) кого-нибудь из наших знакомых и держало в руках или было окружено вспомогательными образами, которые напоминали о его частях, – подобно тому, как формировали составной мнемонический образ различные детали судебного разбирательства по обвинению в отравлении.
«О местах было сказано достаточно, – продолжает автор Ad Herennium, – обратимся теперь к теории образов». Далее следуют правила для образов, первое из которых гласит, что существуют два вида образов: один – для «вещей» (res), другой – для «слов» (verba). Это означает, что память для вещей использует образы, напоминающие о каком-либо доводе, понятии или «вещи», а память для слов подбирает образы, позволяющие вспомнить каждое отдельное слово.
Здесь я ненадолго прерву поспешающего автора, чтобы напомнить читателю, что для студента-ритора «вещи» и «слова» были абсолютно точно определены в своем значении при пятичастном делении риторики. Эти пять частей устанавливаются Цицероном в следующем порядке:
Нахождение есть отыскание вещей (res) истинных или подобных истинным, чтобы причина их представлялась правдоподобной; расположение есть упорядочение открытых таким образом вещей; выражение есть приспособление подходящих слов к найденным (вещам); запоминание есть надежное восприятие в душе вещей и слов; произнесение есть приведение голоса и тела в соответствие с достоинством вещей и слов[7 - Cicero, De inventione, I, vii, 9 (перевод основан на выполненном Х. М. Хаббеллом в издании Лёба, но более точно воспроизводит технические термины res и verba).].
Таким образом, «вещи» – это предметное содержание речи, «слова» же – это язык, в который это предметное содержание облечено. Испытываете ли вы нужду в искусной памяти только для того, чтобы запомнить порядок следования понятий, доводов, «вещей», из которых складывается ваша речь? Или вы стремитесь в нужном порядке запомнить каждое слово? Первая из упомянутых разновидностей памяти есть memoria rerum; вторая – memoria verborum. Следуя определению, данному Цицероном в приведенном фрагменте, идеалом было бы иметь в душе «надежное восприятие» как вещей, так и слов. Но «память для слов» значительно более трудоемка, чем «память для вещей»; очевидно, начинающие риторы из той слабосильной братии, для которой автор Ad Herennium составил это пособие, с большим трудом удерживали в памяти образы для отдельных слов, да и сам Цицерон, как мы позднее увидим, признавал, что можно удовольствоваться одной лишь «памятью для вещей».
Вернемся к правилам образов. Нам уже были предложены правила мест: какие именно места следует подбирать для запоминания. Каковы же правила, определяющие выбор образов, которые следует располагать в этих местах памяти? Мы приближаемся сейчас к одному из самых любопытных и удивительных мест трактата, где автор приводит психологические основания выбора мнемонических образов. Почему оказывается, спрашивает он, что одни образы столь ярки и отчетливы, столь пригодны для пробуждения памяти, в то время как другие столь слабы и немощны, что вообще вряд ли могут воздействовать на нее? Мы должны разобраться в этом, чтобы узнать, какие образы следует отвергать, а к каким – стремиться.
Ибо природа сама учит нас тому, что мы должны делать. Видя в повседневной жизни ничем не примечательные, обыкновенные, банальные вещи, мы вообще не запоминаем их, потому что наш ум не побуждается к этому чем-либо новым или чудесным. Но если мы видим или слышим что-то чрезвычайно необычное, подлое, бесчестное, великое, невероятное или смешное, мы, скорее всего, надолго это запомним. Мы также часто забываем вещи, привычные для наших ушей и глаз, но, как правило, лучше всего помним события нашего детства. И причина этого заключается не в чем ином, как в том, что привычные вещи с легкостью ускользают из памяти, в то время как все новое и захватывающее дольше сохраняется в уме. Восход солнца, его движение по небосводу и закат ни для кого не удивительны, потому что повторяются изо дня в день. Но солнечные затмения вызывают изумление, потому что случаются редко, и на самом деле они более чудесны, чем лунные, которые гораздо более часты. Таким образом, природа сама показывает, что она пробуждается не обыкновенными событиями, а новыми и захватывающими происшествиями. Так пусть же искусство подражает природе, находит то, к чему она стремится, и следует в том направлении, которое она указывает. Ибо для нахождения природа вовсе не последнее дело, а образованность – не первое; начала вещей возникают, скорее, из природного таланта, а завершение их достигается благодаря дисциплине.
Мы должны, следовательно, обеспечить себя такими образами, которые могут дольше всего удерживаться в памяти. Так мы и будем поступать, устанавливая по возможности наиболее выразительные подобия: располагая по местам не бледные и маловыразительные образы, а активные (imagines agentes), пусть и не столь многочисленные; наделяя их невиданной красотой или отвратительным уродством, увенчивая некоторые из них короной или облачая в пурпурную мантию, чтобы подобие стало более заметным для нас; или как-нибудь искажая их, используя, к примеру, образы, запятнанные кровью, перепачканные грязью или красной краской, чтобы их вид производил более необычное впечатление; или сопровождая образы неким комическим эффектом, ибо это также облегчит нам их припоминание. Те вещи, которые мы легко припоминаем, когда они реальны, мы также без труда припомним и в том случае, когда они будут представлять собой лишь вымысел. Но главное – снова и снова обегать в памяти все начальные места, чтобы освежить помещенные в них образы[8 - Ad Herennium, III, xxii.].
Наш автор, очевидно, придерживается той точки зрения, что припоминанию помогает пробуждение эмоциональных аффектов благодаря воздействию этих поразительных и необычных образов, прекрасных и отвратительных, комичных и непристойных. Ясно также, что он имеет в виду образы людей, человеческие фигуры, увенчанные короной или облаченные в пурпурную мантию, запятнанные кровью или запачканные краской, образы людей, страстно вовлеченных в какую-либо деятельность. Мы оказываемся в каком-то удивительном мире, когда обходим его места вместе со студентом-ритором и представляем себе на этих местах столь необычные образы. Квинтилиановы образы памяти, якорь и меч, хотя и намного менее удивительны, зато более доступны пониманию, чем та населенная таинственными обитателями память, с которой знакомит нас автор Ad Herennium.
Одна из многочисленных трудностей, с которыми сталкивается историк искусства памяти, состоит в том, что чаще всего трактат, посвященный ars memorativa, хотя и стремится изложить его правила, редко приводит примеры конкретного применения этих правил, иными словами, редко предоставляет вниманию читателя систему мнемонических образов, расставленных по своим местам. Эта традиция берет начало от самого автора Ad Herennium, который заявляет, что обязанности наставника в мнемоническом искусстве состоят в том, чтобы преподать метод создания образов, привести несколько примеров и затем побудить ученика к созданию собственных образов. Предлагая «введение», говорит он, учитель не обязан составлять особые введения для тысячи различных случаев и требовать от ученика заучивать их наизусть; он преподает ему метод, после чего ученик должен положиться на собственную изобретательность. Так следует поступать и при обучении мнемоническим образам[9 - Ibid., III, xxiii, 39.]. Этот наставнический принцип замечателен, хотя можно и пожалеть о том, что он не позволяет автору показать нам всю последовательность, всю галерею удивительных и необычных imagines agentes. Нам придется довольствоваться тремя примерами, описание которых он приводит.
Первым идет пример образа «памяти для вещей». Представим себе, что мы выступаем в качестве защитника на судебном процессе. «По словам обвинителя, подзащитный отравил свою жертву ядом; можно предположить, что мотивом преступления было стремление получить наследство; имеется также множество свидетелей и соучастников этого преступления». Мы формируем систему памяти применительно ко всему этому делу и хотим поместить в первый locus нашей памяти какой-нибудь образ, который напоминал бы обвинение, выдвинутое против нашего клиента. Допустим, такой:
Если мы лично знали человека, о котором идет речь, представим его больным и лежащим в постели. Если же мы не были знакомы с ним, выберем кого-нибудь на роль нашего больного, только не человека из низших слоев, чтобы мы могли сразу его вспомнить. У края постели мы поместим подзащитного, держащего в правой руке кубок, в левой – восковые таблички, а на безымянном пальце этой руки – бараньи яички. Благодаря этому образу мы запомним, что человек был отравлен, что тому есть свидетели и что причиной была возможность получения наследства[10 - Ad Herennium, III, xx, 33. По поводу перевода medico testiculos arietinos tenentem как «на безымянном пальце держащий бараньи яички» см. примечание переводчика в издании Лёба, р. 214. Digitus medicinalis – название безымянного пальца левой руки. Средневековые интерпретаторы, не понимая слова medico, вводили в эту сцену врача; см. ниже, с. 94.].
Кубок напоминал бы об отравлении, таблички – о завещании или наследстве, а бараньи яички (testiculi, по созвучию с testes) – о свидетелях. Больной должен напоминать или самого отравленного, или кого-либо другого, с кем мы знакомы (но не из среды безликих низших классов). В последующие loci мы поместили бы остальные части обвинения или другие подробности рассматриваемого случая и, правильно запечатлев в памяти эти места и образы, с легкостью вспомнили бы любое обстоятельство дела, к которому захотели бы вернуться.
Итак, перед нами пример классического образа памяти, составленного из человеческих фигур – деятельных, страстных, интригующих – и оснащенного деталями, которые позволяют вспомнить всю «вещь», запечатленную в памяти. Но хотя все тут будто бы разъяснено, я все же испытываю сомнения в действенности этого образа. Кажется, что, как и многое из того, что говорится в Ad Herennium о памяти, он отсылает нас к миру, который либо вообще непостижим, либо не стал еще вполне для нас понятным.
В этом примере автор заботится не о припоминании речей, уместных в разбираемом случае, а о записи подробностей, или «вещей», связанных с ним. Все выглядит так, словно какой-нибудь юрист составляет в памяти картотеку подобных дел. Приведенный факт помещен как ярлык в самом начале этой картотеки памяти, где хранятся сведения о человеке, обвиненном в отравлении. Юрист хочет отыскать что-либо, относящееся к данному случаю, и обращается к составленному им образу, в котором этот случай запечатлен, а за этим образом, в последующих местах, находит все остальное. Если такая интерпретация, вообще говоря, корректна, искусная память могла использоваться не только для запоминания речей, но и для хранения массы самого разнообразного материала, который можно было по желанию найти в любое время.
Слова Цицерона, описывающего в De oratore преимущества искусной памяти, могут служить подтверждением этой интерпретации. Только что он говорил, что места хранят порядок фактов, а образы обозначают сами факты, и что мы пользуемся местами и образами как восковыми табличками для письма и написанными на них буквами. «Но к чему мне, – продолжает он, – говорить об особом значении памяти для оратора, о ее пользе и действенности; о значении удержания в памяти сведений, полученных вами, когда вам было поручено данное дело, и того мнения, которое вы сами составили о нем; о пользе прочной укорененности идей в вашем уме и искусного упорядочения всего вашего словарного запаса, об уделении столь пристального внимания поручениям вашего доверителя и речи противной стороны, на которую вам предстоит отвечать, как если бы они не слуху вашему сообщали свои речи, но запечатлевали их прямо в вашем уме? Ведь только люди, обладающие мощной памятью, знают, что именно они собираются сказать, как долго они намерены говорить и в каком стиле, на какие пункты обвинения они уже дали ответ и какие еще остались; они могут привести также многие аргументы, которые выдвигали в прежних делах, и те, о которых слышали от других людей»[11 - De oratore, II, lxxxvii, 355.].
Нам открываются здесь удивительные возможности памяти, и, по свидетельству Цицерона, тренировка памяти, описанная в Ad Herennium, действительно способствовала усовершенствованию этих природных ее сил.
Описанный выше пример образа относится к образам «памяти для вещей»; он предназначался для запоминания «вещей», или фактов, относящихся к рассматриваемому делу, а в последующих loci этой системы, предположительно, удерживались другие образы «памяти для вещей», с помощью которых запоминались остальные факты, касающиеся этого дела, а также доводы, использованные в речах защиты и обвинения. Другие два примера из Ad Herennium относятся к образам «памяти для слов».
Ученик, стремящийся овладеть «памятью для слов», начинает с того же, что и обучающийся «памяти для вещей», то есть запоминает места, в которых будут храниться его образы. Однако задача его более трудна, ведь для запоминания всех слов речи потребуется гораздо большее число мест, чем для запоминания предметов, о которых в ней говорится. Примеры образов «памяти для слов» относятся к тому же типу, что и приведенный выше образ «памяти для вещей», то есть образы эти представляют собой притягивающие к себе внимание, необычные по своему характеру человеческие фигуры, действующие в захватывающих, драматических ситуациях – imagines agentes.
Итак, нам нужно запомнить следующую стихотворную строку:
Iam domum itionem reges Atridae parant[12 - Ad Herennium, III, xxi, 34. См. примечания переводчика на с. 216–217 в издании Лёба.]
(Ныне вернуться домой готовятся принцы-Атриды)
Эта строка известна только по цитате в Ad Herennium и либо сочинена самим автором в целях демонстрации своей мнемонической техники, либо взята из какого-то утраченного источника. Запоминается она с помощью двух крайне необычных образов.
Вот первый из них: «Домиция, воздевшего руки к небу, побивают плетьми Рексы из рода Марциев». Переводчик и издатель текста в библиотеке Лёба, Х. Каплан, сообщает в примечании, что «имя Рексов носила одна из наиболее знатных семей в роду Марциев; Домиции, хотя и плебеи по происхождению, тоже были прославленным родом». Этот образ мог быть навеян какой-нибудь уличной сценой, когда, например, Домиций из плебейского рода (быть может, перепачканный кровью, что делало образ более запоминающимся) был избит представителями знатной семьи Рексов. Возможно, автор сам был свидетелем этого происшествия. А может быть, это была сцена из какого-нибудь спектакля. В любом случае она была захватывающей и потому годилась для мнемонического образа. Ее и следовало разместить в памяти для запоминания вышеприведенной строки. Яркий образ сразу же доводил до сознания связь Domitius – Reges и в силу звукового подобия позволял вспомнить слова domum itionem reges. Так раскрываются принципы построения образа «памяти для слов», который помогает вспомнить искомые слова благодаря их звуковому подобию именам предметов, представленных в образе.
Все мы хорошо знаем, сколь действенную помощь для отыскания в памяти нужного слова или имени может оказать какая-нибудь совершенно бессмысленная или случайная ассоциация, что-нибудь «застрявшее» в памяти. Классическим искусством это явление было приведено в систему.
Второй образ, предназначенный для запоминания оставшейся части строки, таков: «Эзоп и Кимбер, одетые в костюмы Агамемнона и Менелая из „Ифигенеи“ (Iphigenaia). Эзопом звали популярного трагического актера, друга Цицерона; Кимбер – судя по всему, тоже актер – упоминается только в Ad Herennium[13 - Издание Лёба, примечание переводчика, с. 217.]. Трагедия, в которой они готовятся исполнить свои роли, также неизвестна. Образ представляет этих актеров одетыми как сыновья Атрея, Агамемнон и Менелай. Любопытствующему взгляду за кулисами предстают два известных исполнителя, уже загримированные (согласно правилам, образ лучше запоминается, если он измазан красной краской) и одетые для своих ролей. Такая сцена содержит все, что необходимо для мнемонического образа, поэтому мы используем ее для запоминания слов Atridae parant. Этот образ сразу вызывает в памяти слово Atridae (пусть и без содействия звукового подобия) и напоминает о том, что они готовятся к возвращению домой, демонстрируя готовность актеров к выходу на сцену.
Такой метод запоминания стихов, утверждает автор Ad Herennium, не будет работать сам по себе. Мы должны прочесть стихотворение три или четыре раза, то есть выучить его наизусть обычным способом, и лишь тогда сможем представлять слова посредством образов. «Таким образом, искусство будет дополнять природу. Ибо само по себе ни то ни другое не обладает достаточной силой, хотя следует заметить, что теория и техника гораздо более надежны»[14 - Ad Herennium, loc. cit.]. Тот факт, что мы должны заучить стих еще и наизусть, вызывает несколько больше доверия к «памяти для слов».
Размышляя над образами «памяти для слов», мы замечаем, что наш автор, похоже, заботится теперь не о припоминании речей, прямой задаче студентов-риторов, а о запоминании стихов из поэм или драматических произведений. Чтобы запомнить таким способом всю поэму или драму, ученик должен заготовить в своей памяти «места», простирающиеся, можно сказать, на многие мили, «места», которые он обходил бы, декламируя, и из которых извлекал бы мнемонические подсказки. И, быть может, слово «подсказка» дает ключ к тому, как заставить этот метод работать. Не заучивалась ли поэма и в самом деле наизусть, и лишь в некоторых местах, через промежутки, подчиненные некой стратегии, располагались эти образы-подсказки?
Наш автор упоминает о том, что греками был разработан и другой тип символов «памяти для слов»: «Я знаю, что большинство греков, писавших о памяти, избрали путь составления перечней образов, коим соответствовало великое множество слов, так что тот, кому вздумалось бы запомнить эти образы, нашел бы их готовыми, не тратя сил на поиски»[15 - Ibid., III, xxiii, 38.]. Возможно, эти греческие образы для слов представляли собой скорописные символы, или notae, использование которых входило в то время в моду и у латинян[16 - По свидетельству Плутарха, Цицерон ввел в Риме скоропись; имя его вольноотпущенника Тирона стало ассоциироваться с так называемыми «Тироновыми знаками». См.: The Oxford Classical Dictionary, art. Tachygraphy; H. J. M. Milne, Greek Shorthand Manuals, London, 1934, introduction. Между появлением в латинском мире греческой мнемоники (что нашло свое отражение в Ad Herennium) и введением примерно в то же время скорописи может существовать какая-то связь.]. Применительно к мнемонике это могло означать, что при помощи своего рода внутренней стенографии скорописные символы записывались в уме и запоминались в местах памяти. К счастью, наш автор отвергает этот метод, поскольку даже тысяча таких символов не смогла бы покрыть и ничтожной части всех используемых слов. В самом деле, он скорее снисходителен в отношении «памяти для слов», что бы о ней ни говорилось; ей следует усердно заниматься хотя бы потому, что она значительно сложнее «памяти для вещей». Она должна использоваться в качестве упражнения для укрепления «другого вида памяти, памяти для вещей, имеющей практическое значение. Таким образом, поднаторев в этих трудных упражнениях, мы сможем с легкостью пользоваться тем, другим видом памяти».
Раздел, посвященный памяти, заканчивается призывом к напряженному труду: «Во всякой дисциплине теория мало чем полезна без непрерывного упражнения, особенно же в мнемотехнике теория почти ничего не значит, пока ей не сопутствует прилежание, рвение, напряженный труд и забота. Вы можете быть уверены в том, что располагаете по возможности наибольшим числом мест и что они полностью соответствуют правилам, но в размещении этих образов вы должны упражняться ежедневно»[17 - Ad Herennium, III, xxiv, 40.].
Мы попытались осмыслить ту внутреннюю гимнастику, ту незримую работу концентрации, которая более всего для нас поразительна, хотя правила и примеры из Ad Herennium загадочным образом дают возможность познакомиться со способностями и организацией памяти в эпоху античности. Мы размышляем о чудесах памяти, которые дошли до нас в рассказах древних; о том, как старший Сенека, учитель риторики, мог повторить две тысячи имен в том порядке, в каком они были названы, или о том, как ему удавалось – после того как ученики, составлявшие класс из двухсот или более человек, произносили по очереди каждый по одной стихотворной строке, – продекламировать все эти строки в обратном порядке, от самой последней до самой первой[18 - Marcus Annaeus Seneca, Controversiarum Libri, Lib. I, Предисл., 2.]. Или вспоминаем, что Августин, тоже сведущий в риторике, рассказывает о своем друге по имени Симплиций, который мог декламировать Вергилия, произнося строки в обратном порядке[19 - Augustinus, De anima, lib. IV, cap. vii.]. Из нашего пособия мы усвоили, что, если нами правильно и твердо установлены места памяти, мы можем двигаться по ним в любом направлении – и вперед, и назад. Искусная память помогает понять внушающую благоговейный трепет способность декламировать поэмы в обратном порядке, которой обладали Сенека Старший и Симплиций, друг Августина. Хотя такие подвиги могут казаться нам бессмысленными, они все же дают представление о том почтении, какое в древности оказывалось человеку с тренированной памятью.
Это незримое искусство памяти весьма своеобразно. В нем отражается античная архитектура, но неклассическая по духу; выбор чаще всего падает на необычные места, не соблюдается порядок симметрии. Память полнится образами людей с ярко выраженными индивидуальными чертами: десятое место мы помечаем лицом нашего друга Децима; мы видим нескольких наших знакомых, выстроившихся в ряд; больного мы представляем себе как вполне определенного человека и если незнакомы с ним, то заменяем его тем, кого мы знаем. Эти человеческие фигуры предстают активно жестикулирующими и в драматичных позах, поражают красотой или уродством. Они больше напоминают статуи в готическом соборе, а не классическое искусство. Кажется, они лишены всякого морального значения, их функция сводится исключительно к приданию памяти эмоционального толчка, к ее возбуждению действием индивидуальных черт и странностей характера. Однако своим возникновением это впечатление обязано, быть может, тому обстоятельству, что нам не был приведен пример образа, с помощью которого можно вспомнить такие «вещи», как справедливость и умеренность или их части, о которых автор Ad Herennium говорит в разделе о нахождении предметов речи[20 - Ad Herennium, III, iii.]. Способность искусства памяти все время ускользать от понимания весьма утомительна для того, кто пишет его историю.
Хотя средневековая традиция оказалась неправа, приписывая авторство Ad Herennium «Туллию», она все же не ошибалась, полагая, что последний сам практиковал и рекомендовал ученикам овладевать искусством памяти. В сочинении De oratore (оконченном в 55 году до н. э.) Цицерон трактует пять частей риторики в свойственной ему изящной, обстоятельной и учтивой манере, весьма отличной от сухого стиля нашего учителя риторики, и ссылается в этом труде на мнемоническое искусство, основанное, по всей видимости, на тех же самых технических приемах, что и мнемоника, описанная в Ad Herennium.
Впервые мнемоника упоминается в речи Красса из первой книги, где он говорит, что вовсе не испытывает неприязни «к тому методу мест и образов, что преподается в искусстве»[21 - De oratore, I, xxxiv, 157.], поскольку он полезен для памяти. Позднее Антоний рассказывает о том, что Фемистокл не желал изучать искусство памяти, «которое в ту пору было введено впервые», говоря, что предпочитает науке запоминания науку забывания. Антоний предупреждает, что эти легкомысленные слова не должны «понудить нас пренебречь искусством памяти»[22 - Ibid., II, lxxiv, 299–300.]. Таким образом, читатель оказывается подготовлен к мастерскому изложению истории о роковом пире, на котором Симонид изобрел свое искусство, – истории, с которой я начала эту главу. В ходе последующего рассуждения об искусстве памяти Цицерон приводит сокращенную версию правил:
Следовательно (чтобы не докучать в предмете привычном и хорошо знакомом), нужно иметь в своем распоряжении большое число мест, хорошо освещенных, расположенных в строгом порядке и на некотором расстоянии друг от друга (locis est utendum multis, illustribus, explicatis, modicis intervallis); а также образы – активные, четко очерченные, необычные, такие, которые могут встретиться с душой и проникнуть в нее (imaginibus autem agentibus, acribus, insignitis, quae occurrere celeriterque percutere animum possint)[23 - De oratore, II, lxxxvii, 358.].
Он сократил количество правил мест и образов до минимума, чтобы не наскучить читателю повторением содержащихся в учебниках наставлений, столь хорошо знакомых и привычных.
Далее он в несколько туманных выражениях говорит о крайне усложненных типах памяти для слов:
Способность использовать эти (образы) разовьется благодаря практике, в которой вырабатывается привычка, благодаря (образам) похожих слов, изменяющихся или не изменяющихся по падежам, или переходящих от (называния) части к называнию рода, а также благодаря использованию образа одного слова для припоминания целой фразы, как искусный художник различает положение предметов по видоизменению их форм[24 - Ibid., loc. cit.].
Затем Цицерон говорит о том типе памяти для слов, который автор Ad Herennium называл «греческим» и в котором делается попытка запомнить отдельный образ для каждого слова, но, как и наш безымянный автор, приходит к заключению, что память для вещей представляет собой наиболее полезную для оратора отрасль искусства.
Память для слов, которая нам тоже важна, приобретает отчетливость благодаря большему разнообразию образов (в противоположность использованию образа одного слова для всей фразы, о котором он только что говорил. – Ф. Й.); ибо многие слова подобны суставам, соединяющим члены фразы, и их нельзя образовать никакими подобиями – для них нам приходится формировать образы, которые будут использоваться постоянно; но память для вещей особенно важна для оратора: здесь мы запечатлеваем вещи в нашем уме с помощью умелого размещения особых масок (singulis personis), которые их представляют, так что можем схватывать идеи с помощью образов, а их порядок – с помощью мест[25 - Ibid., II, lxxxviii, 359.].
Употребление слова persona в трактовке образа памяти для вещей весьма любопытно. Не означает ли оно, что необычное впечатление, производимое образом памяти, усиливается, если подчеркивается его трагический или комический аспект, как это происходит, когда актер выступает в маске? Не свидетельствует ли оно о том, что театр был тем возможным источником, из которого черпались яркие образы памяти? Или это слово в данном контексте означает, что памятный образ похож на какого-нибудь знакомого человека (на что указывает и автор Ad Herennium), но носит эту персональную маску лишь для того, чтобы пробудить нашу память?
У Цицерона получается, таким образом, небольшой трактат об ars memorativa, где в крайне сжатом виде собраны все связанные с ним вопросы в их обычном порядке. Изложив историю Симонида, он заявляет, что искусство складывается из мест и образов, и уподобляет его внутреннему письму на воске, после чего приступает к рассмотрению естественной и искусной памяти и приходит к известному выводу, что природа может быть улучшена при помощи искусства. Далее следуют правила мест и правила образов, за ними – разбор памяти для вещей и памяти для слов. Хотя Цицерон и соглашается с тем, что только память для вещей может оказать оратору существенную поддержку, ясно, что сам он прошел и школу памяти для слов, где образы для слов двигаются (?), изменяются по падежам (?), где целая фраза благодаря какой-то необычной внутренней визуализации оказывается заключена в образе одного слова, который он сравнивает с произведением искусного художника.
И лгут люди неученые (quod ab inertibus dicitur), когда утверждают, что память гибнет под тяжестью образов и даже то, что удалось запомнить благодаря одной лишь природе, погружается во тьму; ибо я встречал выдающихся мужей, обладавших почти божественной по силе памятью (summos homines et divina prope memoria): Хармада в Афинах и Метродора Скепсийского в Азии, о котором говорят, что он до сих пор жив, и каждый из них рассказывал мне, что он записывает то, что хочет запомнить, в определенных местах, которыми он располагает, при помощи образов, как бы запечатлевая буквы на воске. Значит, эта практика не поможет развиться памяти, если она не дана от природы, но, несомненно, заставит ее проявиться, если она только скрывается[26 - De oratore, II, lxxxviii, 360.].
Из этих заключительных слов Цицерона об искусстве памяти нам становится ясно, что возражения против классического искусства, которые возникали на протяжении всей его истории – и до сих пор возникают у всякого, кто знакомится с ним, – высказывались уже в античности. Во времена Цицерона встречались люди инертные, ленивые или неученые, которые разделяли точку зрения здравого смысла (которую всем сердцем разделяю и лично я, поскольку, как уже было сказано, я только пишу историю этого искусства, но не являюсь его приверженцем) – точку зрения, согласно которой все эти места и образы погребут, словно под грудой камней, то, что слабому человеку под силу запомнить естественным путем. Цицерон же доверяет этому искусству и защищает его. Очевидно, от природы он обладал невероятно острой зрительной памятью.
Что же мы должны думать о тех выдающихся мужах, Хармаде и Метродоре, с которыми встречался Цицерон и память которых была «почти божественной» по силе? Будучи оратором с феноменально развитой памятью, Цицерон был к тому же платоником по своим философским воззрениям, а для платоников память обладала особым значением. Что же имеет в виду оратор и философ-платоник, говоря о чьей-либо памяти, что она «почти божественна»?
Имя загадочного Метродора Скепсийского еще не раз встретится на последующих страницах этой книги.
Самым ранним риторическим сочинением Цицерона был трактат De inventione («О нахождении»), который он написал за тридцать лет до De oratore, то есть примерно в то самое время, когда неизвестный автор Ad Herennium составил свое краткое руководство. В De inventione мы не находим ничего нового об искусстве памяти, поскольку речь там идет только о первой части риторики, а именно об inventio, о нахождении или составлении предметного содержания речи, о собирании тех «вещей», о которых в ней будет говориться. Тем не менее это сочинение сыграло, по всей видимости, очень важную роль во всей дальнейшей истории искусства памяти, поскольку именно благодаря цицероновскому определению добродетелей, содержащемуся в De inventione, искусная память стала в средние века составной частью кардинальной добродетели благоразумия.
В конце De inventione Цицерон определяет добродетель как «некий склад ума, находящийся в гармонии с рассудком и порядком природы»; таково определение добродетели у стоиков. Затем он говорит, что добродетель складывается из четырех частей: благоразумия, справедливости, мужества и умеренности. Каждую из четырех основных добродетелей он также разделяет на части. Вот как определяется им благоразумие и его составляющие:
Благоразумие есть знание того, что есть добро, и что – зло, а также того, что не есть ни то ни другое. Его составные части – память, рассудительность и предусмотрительность (memoria, intelligentia, providentia). Память есть способность, благодаря которой ум воспроизводит события прошлого. Рассудительность есть способность, благодаря которой он удостоверяется в том, что есть. Предусмотрительность есть способность, благодаря которой он видит, что нечто должно произойти, еще до того, как оно действительно происходит[27 - De inventione, II, iii, 160 (пер. Х. М. Хаббелла в издании Лёба).].
Цицероновы дефиниции добродетелей и их частей, содержащиеся в De invetione, оказались весьма важным источником для формирования тех понятий, которые впоследствии стали известны под именем четырех кардинальных добродетелей. Дефиниции, данные «Туллием» трем частям благоразумия, цитируют Альберт Великий и Фома Аквинский, когда рассуждают о добродетелях в своих Summae. И то обстоятельство, что «Туллий» определил память как часть благоразумия, заняло главное место в их похвалах искусной памяти. Довод отличался замечательной симметрией, поскольку в средние века Туллия почитали и как автора De inventione, и как создателя Ad Herennium; эти сочинения были известны соответственно как его «Первая» и «Вторая Риторика». В своей «Первой Риторике» Туллий заявляет, что память является частью благоразумия; во «Второй» он говорит, что естественная память может быть усовершенствована с помощью искусной. Поэтому нужно практиковать искусную память как часть добродетели благоразумия. Альберт и Фома цитируют и обсуждают правила искусной памяти именно потому, что память является частью благоразумия.
Процесс, в ходе которого искусная память была перенесена схоластикой из риторики в этику, будет более подробно рассмотрен в одной из следующих глав[28 - См. ниже, гл. III.]. Пока я лишь кратко коснусь этого предмета, потому что у кого-нибудь может возникнуть вопрос, принадлежит ли этическая трактовка искусной памяти, связывающая ее с благоразумием, целиком средним векам, или она тоже уходит своими корнями в античность. Стоики, как известно, придавали большое значение тому, чтобы фантазия была ограничена моралью; этот моральный контроль они считали важной частью этики. Как я уже говорила выше, мы не можем узнать, в каком виде эти «вещи» – благоразумие, справедливость, мужество и умеренность, а также их части – появлялись в искусстве памяти. Быть может, благоразумие, например, принимало некую поражающую своей красотой мнемоническую форму, представало под личиной (persona) кого-нибудь из наших знакомых и держало в руках или было окружено вспомогательными образами, которые напоминали о его частях, – подобно тому, как формировали составной мнемонический образ различные детали судебного разбирательства по обвинению в отравлении.