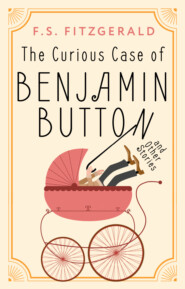По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Прекрасные и проклятые
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
[7 - Название происходит от евангельского текста: «Посмотрите на лилии, как они растут: не трудятся, не прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как каждая из них» (Лк. 12, 27) – прим. перев.]
Чистоту в квартире поддерживал слуга-англичанин с необыкновенной, почти сценически уместной фамилией Баундс[8 - «Bounds» в буквальном переводе – «границы, ограничения» (прим. перев.).], чей формализм омрачал лишь тот факт, что он носил мягкий воротничок. Если бы Баундс безраздельно принадлежал Энтони, этот изъян можно было бы исправить без промедления, но он также был Баундсом для двух других джентльменов, проживавших по соседству. С восьми до одиннадцати утра он находился в распоряжении Энтони. Он приносил почту и готовил завтрак. В половине десятого он аккуратно дергал край одеяла Энтони и произносил несколько кратких слов; Энтони никак не мог вспомнить, что это за слова, но подозревал, что они были неодобрительными. Потом он подавал завтрак на ломберном столе в гостиной, убирал постель и наконец, с некоторой враждебностью осведомляясь, не нужно ли сделать что-то еще, покидал квартиру.
По утрам, как минимум один раз в неделю, Энтони наносил визит своему брокеру. Его доход составлял немного менее семи тысяч в год по процентам от денег, унаследованных от матери. Его дед, который не позволял собственному сыну выходить за рамки весьма щедрого содержания, рассудил, что такой суммы будет достаточно для нужд молодого Энтони. На каждое Рождество он посылал внуку пятисотдолларовую облигацию, которую Энтони обычно продавал, так как он постоянно (хотя и не слишком) нуждался в деньгах.
Его общение с брокером варьировало от легких бесед на светские темы до дискуссий о надежности восьмипроцентных инвестиций; Энтони неизменно получал удовольствие от того и другого. Казалось, здание большой трастовой компании непосредственно связывает его с огромными состояниями, которые он уважал за солидарную ответственность, и заверяет его в том, что он занимает достаточно защищенное место в финансовой иерархии. Вид спешащих по делам клерков вызывал у него такое же ощущение надежности, которое он испытывал, когда размышлял о деньгах своего деда, и даже более того: дедовские деньги смутно представлялись Энтони ссудой до востребования, выданной миром Адаму Пэтчу за его нравственную добродетельность, в то время как деньги, которые крутились здесь, как будто собирались и удерживались воедино лишь непреклонной волей и героическими усилиями многих людей. Кроме того, здесь они становились чем-то более явным и определенным – просто деньгами.
Хотя Энтони порой с трудом удерживался в пределах своего дохода, он считал, что этого достаточно. Разумеется, в один прекрасный день у него будет много миллионов, а пока что он находил raison d’etre[9 - Разумное основание или смысл существования (фр.). Здесь уместнее второй вариант.] в замыслах создания нескольких эссе о римских папах эпохи Возрождения. Это возвращает нас к разговору с его дедом, состоявшемуся сразу же после его возвращения из Рима.
Энтони надеялся обнаружить своего деда усопшим, но по звонку с причала узнал, что Адам Пэтч снова пошел на поправку. На следующий день он скрыл свое разочарование и отправился в Территаун. В пяти милях от станции его такси выехало на тщательно ухоженную дорожку, которая шла по настоящему лабиринту стен и проволочных оград, защищавших поместье. Как говорили люди, было точно известно, что если социалисты придут к власти, то одним из первых людей, которых они убьют, будет старина «Сердитый Пэтч».
Энтони опоздал, и достопочтенный филантроп ожидал его в застекленном солярии, где он уже второй раз просматривал утренние газеты. Его секретарь Эдвард Шаттлуорт (который до своего возрождения был игроком, владельцем салуна и нечестивцем по всем статьям) проводил Энтони в комнату и представил его своему спасителю и благодетелю, как будто показывал ему бесценное сокровище.
Они обменялись формальным рукопожатием.
– Чрезвычайно рад слышать, что тебе стало лучше, – сказал Энтони.
Старший Пэтч достал часы с таким видом, словно встречался со своим внуком лишь на прошлой неделе.
– Поезд опоздал? – мягко спросил он.
Ожидание Энтони раздражало его. Он пребывал в заблуждении, что в молодости ему удавалось вести дела с абсолютной пунктуальностью и выполнять свои обязательства ровно в срок, что было непосредственной и главной причиной его успеха.
– В этом месяце поезда часто опаздывают, – заметил он с ноткой слабого осуждения в голосе, потом глубоко вздохнул и добавил: – Садись.
Энтони смотрел на своего деда с немым изумлением, которое всегда испытывал в таких случаях. Этот дряхлый, наполовину выживший из ума старик обладал такой силой, что, вопреки мнению желтой прессы, мог прямо или косвенно купить такое количество душ, чтобы заселить Уайт-Плейнс[10 - Уайт-Плейнс – город в штате Нью-Йорк с населением примерно 50 000 человек (прим. перев.).]. Это казалось таким же невероятным, как поверить, что когда-то он был крикливым розовым младенцем.
Интервал семидесяти пяти лет его существования действовал как волшебные кузнечные мехи: первые четверть века они до краев наполняли его жизнью, а последние четверть века высасывали все обратно. Его щеки ввалились, грудь запала, руки и ноги стали вдвое тоньше прежнего. Время безжалостно отобрало его зубы, один за другим, подвесило его маленькие глаза в темно-сизых мешках, проредило его волосы, превратило их из серо-стальных в белые в некоторых местах, выжелтило розовую кожу и грубо смешало естественные цвета, как ребенок, балующийся с набором красок. Потом, через тело и душу, оно атаковало его мозг. Оно насылало ему потные ночные кошмары, беспричинные слезы и безосновательные страхи. Оно отщепило от прочного материала его энтузиазма десятки мелких, но вздорных навязчивых идей; его энергия деградировала до капризов и выходок испорченного ребенка, а его воля к власти выродилась в бессмысленное инфантильное желание иметь царство арф и песнопений на земле.
После осторожного обмена любезностями Энтони почувствовал, что от него ожидают изложения его намерений. Вместе с тем легкий блеск в глазах старика предостерегал его от немедленной огласки своего желания жить за рубежом. Энтони хотелось, чтобы Шаттлуорт проявил тактичность и вышел из комнаты, – он недолюбливал Шаттлуорта, – но секретарь уже устроился в кресле-качалке и переводил взгляд выцветших глаз между двумя Пэтчами.
– Раз уж ты здесь, то должен чем-то заняться, – мягко сказал его дед. – Ты должен что-то совершить.
Энтони ждал, что дед добавит «оставить что-нибудь после себя». Потом он заговорил:
– Я думал… мне казалось, что я лучше всего подготовлен для сочинения…
Адам Пэтч поморщился, вероятно, представив семейного поэта с длинными волосами и тремя любовницами.
– …труда по истории, – закончил Энтони.
– Истории? Истории чего? Гражданской войны? Революции?
– Э-ээ… нет, сэр. Истории Средних веков.
Одновременно у Энтони возникла идея об истории папства эпохи Возрождения, преподнесенной под другим углом зрения. Тем не менее он был рад, что сказал о Средних веках.
– Средневековье? А почему не твоя родная страна, о которой ты кое-что знаешь?
– Видите ли, я так долго жил за границей…
– Не понимаю, с какой стати ты должен писать о Средних веках. Мы называли их Темными веками. Никто толком не знает, что там происходило, и никому до этого нет дела. Они закончились, и дело с концом.
Он еще несколько минут продолжал распространяться о бесполезности подобных сведений, естественно, упомянув об испанской инквизиции и «монастырской коррупции». И наконец:
– Как думаешь, ты сможешь заниматься какой-то работой в Нью-Йорке? Ты вообще-то намерен работать? – Последние слова были произнесены с едва уловимым цинизмом.
– Думаю, да, сэр.
– И когда ты закончишь свой труд?
– Э-э-э, понимаете, нужно будет составить общий план. Понадобится масса предварительного чтения.
– Я полагал, что ты уже достаточно долго занимался этим.
И без того неровная беседа довольно резким образом подошла к завершению, когда Энтони встал, посмотрел на часы и заметил, что во второй половине дня он назначил встречу со своим брокером. Он собирался на несколько дней остаться со своим дедом, но утомился и пребывал в раздраженном состоянии из-за качки во время плавания и совершенно не желал выслушивать изощренные ханжеские нападки. Поэтому он обещал вернуться через несколько дней.
Тем не менее в результате этой встречи работа вошла в его жизнь как постоянная идея. За год, миновавший с тех пор, он составил несколько списков авторитетных источников, даже экспериментировал с названиями глав и разделением своей работы на хронологические периоды, но к настоящему времени не существовало ни одной написанной строчки, и такая вероятность не просматривалась. Он ничего не делал, но вопреки общепризнанным прописным истинам ему удавалось получать от этого недурное удовольствие.
Вторая половина дня
Стоял октябрь 1913 года, середина недели сплошь из приятных дней, когда солнечный свет разливался по перекресткам, а воздух казался таким истомленным, что прогибался под призрачным весом падающих листьев. Было приятно сидеть у открытого окна, лениво дочитывая главу «Едгина»[11 - «Едгин» (анаграмма от «нигде») – утопический роман Сэмюэля Батлера 1872 года (прим. перев.).]. Было приятно зевнуть после пяти вечера, бросить книгу на стол и неспешно направиться по коридору в ванную, напевая себе под нос.
К тебе… о пре-крас-ная леди, –
пел он, открывая кран,
Я устремляю… свой взор;
О тебе… о пре-крас-ная леди,
Мое сердце болит…
Он повысил голос, чтобы заглушить шум воды, льющейся в ванну. Глядя на фотографию Хейзел Даун, висевшую на стене, он приложил к плечу невидимую скрипку и легко провел по струнам фантомным смычком. Тихое гудение через сомкнутые губы изображало звук скрипки. Секунду спустя он перестал вращать руками, потянулся к рубашке и стал расстегивать ее. Полностью обнаженный и принявший атлетическую позу, как человек в тигровой шкуре на рекламном плакате, он удовлетворенно рассмотрел себя в зеркале и оторвался от этого зрелища, чтобы осторожно попробовать ногой воду. Отрегулировав краны и издав несколько кряхтящих звуков в предвкушении блаженства, он скользнул внутрь.
Когда он привык к температуре воды, то погрузился в состояние сладкой дремоты. По окончании банной процедуры он неторопливо оденется и прогуляется по Пятой авеню до «Рица», где у него был заказан обед с двумя наиболее частыми компаньонами, Диком Кэрэмелом и Мори Ноблом. Потом они с Ноблом отправятся в театр, а Кэрэмел, вероятно, поспешит домой и вернется к работе над книгой, которую он собирался закончить в ближайшем времени.
Энтони был рад, что не собирается работать над своей книгой. Сама идея о необходимости сидеть на одном месте и что-то придумывать – не только слова, облекающие мысли, но и мысли, достойные быть облеченными в слова, – казалась абсурдной и находилась за пределами его устремлений.
Покинув ванну, он навел на себя лоск с кропотливой внимательностью чистильщика обуви. Затем он направился в спальню и, насвистывая причудливую неопределенную мелодию, стал расхаживать туда-сюда, застегивая пуговицы, поправляя одежду и наслаждаясь теплотой толстого ковра под ногами.
Он закурил сигарету, выбросил спичку в открытую фрамугу и помедлил, держа сигарету в двух дюймах ото рта, который слегка приоткрылся. Его взгляд сосредоточился на ярком цветном пятне на крыше дома немного дальше по улице.
Это была девушка в красном, несомненно шелковом пеньюаре, сушившая волосы под ранним вечерним солнцем, еще сохранившем свой жар. Его свист затих в неподвижном воздухе; он осторожно подошел на шаг ближе к окну и внезапно осознал, что она прекрасна. На каменном парапете рядом с ней лежала подушка того же цвета, что и ее одеяние; облокотившись на нее, девушка глядела вниз, в освещенный проход между домами, откуда доносились крики играющих детей.
Несколько минут Энтони наблюдал за ней. В нем что-то шевельнулось, – нечто такое, что нельзя было объяснить теплыми предвечерними запахами или блистательной яркостью красного шелка. Он остро ощущал красоту девушки, а потом внезапно понял. Это было расстояние между ними, – не редкая и заветная дистанция между двумя душами, но все же расстояние, исчисляемое в обычных ярдах. Их разделял осенний воздух, крыши и невнятные голоса. Однако на одну почти необъяснимую секунду, вопреки природе застывшую во времени, его чувство было более близким к обожанию, чем во время самого страстного поцелуя.
Он закончил одеваться, нашел черный галстук-бабочку и аккуратно поправил его перед трельяжем в ванной. Поддавшись внезапному порыву, он быстро вернулся в спальню и снова выглянул в окно. Теперь женщина стояла; она откинула волосы назад, и он мог хорошо видеть ее. Она была полной, не меньше тридцати пяти лет на вид и совершенно непримечательной. Цокнув языком, он вернулся в ванную и поправил свой пробор.
К тебе… о пре-крас-ная леди, –