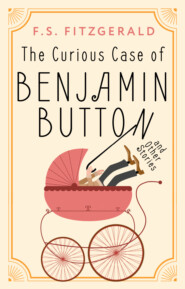По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ночь нежна
Жанр
Серия
Год написания книги
1934
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но он опоздал – она шагнула вплотную к нему и жалобно прошептала:
– Возьмите меня.
– Взять вас – куда?
Он оцепенел от изумления.
– Я вас прошу, – шептала она. – Сделайте со мной – ну все как есть. Ничего, если мне будет неприятно – наверно будет, – мне всегда было противно даже думать об этом, – но тут совсем другое дело. Я хочу, чтоб вы это сделали.
Для нее самой было неожиданностью, что она способна на такой разговор. Отозвалось все, о чем она читала, слышала, грезила в долгие годы ученья в монастырской школе. К тому же она каким-то чутьем понимала, что играет сейчас самую свою триумфальную роль, и вкладывала в нее все силы души.
– Что-то вы не то говорите, – попробовал урезонить ее Дик. – Не шампанское ли тут виновато? Давайте-ка замнем этот разговор.
– Ах нет, нет! Я прошу вас, возьмите меня, научите меня. Я ваша и хочу быть вашей совсем.
– Прежде всего, подумали ли вы, как больно было бы Николь?
– Она не узнает – к ней это не имеет отношения.
Он продолжал мягко и ласково:
– Потом, вы забываете, что я люблю Николь…
– А разве любить можно только кого-то одного? Ведь вот я люблю маму и люблю вас – еще больше, чем ее. Теперь – больше.
– …и наконец, никакой любви у вас сейчас ко мне нет, но она могла бы возникнуть, и это изломало бы вашу жизнь в самом ее начале.
– Но мы потом уже никогда не увидимся, обещаю вам. Я вызову маму, и мы с ней уедем в Америку.
Эту мысль он отогнал. Ему слишком хорошо помнилась юная свежесть ее губ. Он переменил тон.
– Все это – настроение, которое скоро пройдет.
– Нет, нет! И я не боюсь, если даже будет ребенок. Поеду в Мексику, как одна актриса с нашей студии. Ах, я никогда не думала, что со мной может быть так, мне всегда только противно бывало, когда меня целовали всерьез. – Ясно было, что она все еще верит, что это должно произойти. – У некоторых такие большие острые зубы, но вы совсем другой, вы красивый и замечательный. Ну, пожалуйста, сделайте это…
– А, я понял – вы просто думаете, что есть особого рода поцелуи, и хотите, чтобы я вас поцеловал именно так.
– Зачем вы смеетесь надо мной – я не ребенок. Я знаю, что у вас нет ко мне любви. Я на это и не рассчитывала. – Она вдруг присмирела и сникла. – Наверно, я вам кажусь ничтожеством.
– Глупости. Но вы мне кажетесь совсем еще девочкой. – Про себя он добавил: «…которую слишком многому пришлось бы учить».
Она молчала, напряженно дыша, пока Дик не договорил:
– И помимо всего жизнь так устроена, что эти вещи не бывают по заказу.
Розмэри понурила голову и отошла, подавленная обидой и разочарованием. Дик машинально начал было: «Лучше мы с вами просто…», но осекся, увидев, что она сидит на кровати и плачет, подошел и сел рядом. Ему вдруг стало не по себе; не то чтобы он усомнился в занятой нравственной позиции – слишком уж явной была невозможность иного решения, с какой стороны ни взгляни, – нет, ему просто было не по себе, и обычная его внутренняя гибкость, упругая полнота его душевного равновесия на короткое время изменила ему.
– Я знала, что вы не захотите, – рыдала Розмэри. – Нечего было и надеяться.
Он встал.
– Спокойной ночи, детка. Ужасно глупо все получилось. Давайте считать, что этого не было. – Он отмерил ей дозу успокаивающей банальщины в качестве снотворного: – Вас многие еще будут любить, а когда-нибудь вы и сами полюбите и, наверно, порадуетесь, что пришли к своей первой любви нетронутою и физически и душевно. Немножко старомодный взгляд, пожалуй?
Она подняла голову и увидела, как он сделал шаг к двери; она смотрела на него, даже отдаленно не догадываясь, что в нем происходит, она увидела, как он медленно сделал еще шаг, потом оглянулся – и на миг ей захотелось броситься ему вслед, впиться в него, почувствовать его рот, его уши, ворот его пиджака, захотелось обвиться вокруг него и вобрать его в себя; но уже его рука легла на дверную ручку. Больше нечего было ждать. Когда дверь за ним затворилась, она встала, подошла к зеркалу и, тихонечко всхлипывая, стала расчесывать волосы щеткой. Сто пятьдесят взмахов, положенных ежевечерне, потом еще сто пятьдесят. Розмэри водила щеткой по волосам, пока у нее не заболела рука, тогда она переменила руку и продолжала водить…
XVI
За ночь Розмэри остыла и проснулась с чувством стыда. Из зеркала глянуло на нее хорошенькое личико, но это ее не успокоило, а лишь всколыхнуло вчерашнюю боль; не помогло и пересланное матерью письмо, извещавшее о приезде в Париж того студента, чьей гостьей она была на прошлогоднем йельском балу, – все это теперь казалось бесконечно далеким. Она вышла из своей комнаты, ожидая встречи с Дайверами как пытки – сегодня мучительной вдвойне. Но никто не разглядел бы этого под внешней оболочкой, столь же непроницаемой, как у Николь, когда они встретились, чтобы вместе провести утро в примерках и покупках. И все же приятно было, когда Николь заметила по поводу нервозности какой-то продавщицы: «Многие люди склонны преувеличивать отношение к себе других – почему-то им кажется, что они у каждого вызывают сложную гамму симпатий и антипатии». Еще вчера такое замечание заставило бы экспансивную Розмэри внутренне вознегодовать, сегодня же она выслушала его с радостью – так ей хотелось убедить себя, что не произошло ничего страшного. Она восхищалась Николь, ее красотой, ее умом, но в то же время она впервые в жизни ревновала. Перед самым отъездом с Ривьеры мать в разговоре с ней назвала Николь красавицей; это было сказано тем небрежным тоном, которым она всегда – Розмэри хорошо это знала – маскировала самые значительные свои суждения, и должно было означать, что Розмэри такого названия не заслуживает. Розмэри это нимало не задело; она с детства была приучена считать себя чуть ли не дурнушкой и свою недавно лишь признанную миловидность воспринимала как что-то не присущее ей, а скорей благоприобретенное, вроде умения говорить по-французски. Но сейчас, сидя возле Николь в такси, она невольно сравнивала ее с собой. Казалось, в Николь все словно создано для романтической любви, это стройное тело, этот нежный рот, иногда плотно сжатый, иногда полураскрытый в доверчивом ожидании. Николь была красавицей с юных лет, и было видно, что она останется красавицей и тогда, когда ее кожа, став суше, обтянет высокие скулы, – такой склад лица не мог измениться. Раньше она была по-саксонски розовой и белокурой, но теперь, с потемневшими волосами, стала даже лучше, чем тогда, когда золотистое облако вокруг лба затмевало всю остальную ее красоту.
На Rue de Saints P?res Розмэри вдруг указала на один дом и сказала:
– Вот здесь мы жили.
– Как странно! Когда мне было двенадцать лет, мы с мамой и с Бэби, моей сестрой, провели зиму вон в том отеле напротив.
Два серых фасада глазели на них с двух сторон – тусклые отголоски детства.
– У нас тогда достраивался наш дом в Лейк-Форест, и нужно было экономить, – продолжала Николь. – То есть экономили мы с Бэби и с гувернанткой, а мама путешествовала.
– Нам тоже нужно было экономить, – сказала Розмэри, понимая, что смысл этого слова для них неодинаков.
– Мама всегда выражалась очень деликатно: не «дешевый отель», как следовало бы сказать, а «небольшой отель». – Николь засмеялась своим магнетическим коротким смешком. – Если кто-нибудь из наших светских знакомых спрашивал наш адрес, мы никогда не говорили: «Мы живем в квартале апашей, в дрянной лачуге, где спасибо, если вода идет из крана», мы говорили: «Мы живем в небольшом отеле». Словно бы все большие отели для нас чересчур шумны и вульгарны. Конечно, знакомые отлично все понимали и рассказывали об этом направо и налево, но мама всегда утверждала, что в Европе нужно уметь жить и она умеет. Еще бы ей не уметь, ведь она родилась в Германии. Но мать ее была американкой, и выросла она в Чикаго, и американского в ней было гораздо больше, чем европейского.
До встречи со всеми прочими оставались считаные минуты, но Розмэри успела перестроиться на новый лад, прежде чем такси остановилось на Rue Guinemer, против Люксембургского сада. Завтракать решено было у Нортов, в их уже разоренной квартире под самой крышей, окнами выходившей на густую зелень древесных крон. Розмэри казалось, что даже солнце светит сегодня не так, как вчера. Но вот она очутилась лицом к лицу с Диком, их взгляды встретились, точно птицы задели друг друга крылом на лету. И вмиг стало все хорошо, все прекрасно, она поняла: он уже почти ее любит. Сумасшедшая радость охватила ее, живое тепло побежало по телу. Какой-то ясный спокойный голос запел внутри и все крепнул и набирал силу. Она почти не смотрела на Дика, но твердо знала, что все хорошо.
После завтрака Розмэри с Дайверами и Нортами отправилась в студию «Франко-Америкен филмз»; туда же должен был приехать и Коллис Клэй, ее нью-хейвенский приятель, с которым она сговорилась по телефону. Этот молодой человек, родом из Джорджии, отличался той необыкновенной прямолинейностью и даже трафаретностью суждений, которая свойственна южанам, приехавшим на Север получать образование. Прошлой зимой Розмэри находила его очень милым и однажды, когда они ехали на машине из Нью-Хейвена в Нью-Йорк, позволила ему всю дорогу держать ее руку в своей; но сейчас он для нее попросту не существовал.
В просмотровом зале она сидела между Коллисом Клэем и Диком; у механика что-то заело в аппарате, и, пока он возился, налаживая его, какой-то француз из администрации увивался вокруг Розмэри, стараясь изъясняться новейшим американским сленгом. Но вот в зале погас свет, что-то знакомо щелкнуло, зажужжало, и они с Диком наконец остались одни. В полутьме они глянули друг на друга.
– Розмэри, милая, – прошептал Дик. Их плечи соприкоснулись. Николь беспокойно задвигалась на своем месте в конце ряда, а Эйб долго кашлял и сморкался; потом все успокоилось, и на экране замелькали кадры.
И вот она – прошлогодняя школьница с распущенными волосами, неподвижно струящимися вдоль спины, точно твердые волосы танагрской статуэтки; вот она – такая юная и невинная, плод ласковых материнских забот; вот она – воплощенная инфантильность Америки, новая бумажная куколка для услады ее куцей проститучьей души. Розмэри вспомнила, какой обновленной и свежей она чувствовала себя под свежим упругим шелком этого платья.
Папина дочка. Такая малипуся, а ведь чего только не натерпелась, бедненькая. Кисонька-лапочка, храброе маленькое сердечко. Перед этим крохотным кулачком отступали похоть и разврат, судьба и та оборачивалась по-иному, логика, диалектика, здравый смысл теряли всякую силу. Женщины, позабыв про горы немытой посуды дома, плакали в три ручья; даже в самом фильме одна женщина плакала так много, что едва не оттеснила в нем Розмэри на задний план. Она плакала в декорациях, стоивших целое состояние, в столовой в стиле Данкена Файфа[15 - Файф Данкен (ок. 1768–1854) – декоратор и мебельный мастер, чьи поздние работы отличались тяжеловесностью и претенциозной орнаментальностью.], в аэропорту, на реке во время парусных гонок, из которых вошло в картину только два кадра, в вагоне метро и, наконец, в туалетной. Но победа все же осталась за Розмэри. Благородство натуры, смелость и решительность помогли ей устоять против царящей в мире пошлости; все тяготы выдержанной борьбы читались на лице Розмэри, еще не успевшем превратиться в привычную маску, – и так по-настоящему трогательна была ее игра, что симпатии всего ряда зрителей то и дело устремлялись к ней. Картина шла с одним перерывом; как только дали свет, все наперебой принялись выражать свое восхищение, а Дик, переждав общий шум, сказал просто и искренне: «Вы меня потрясли. Уверен, что вы станете одной из лучших актрис нашего времени».
И снова на экране «Папина дочка». Житейские бури улеглись. Розмэри и ее родитель нашли друг друга, и все закончилось нежной сценой, кровосмесительная тенденция которой была так очевидна, что от слащавой сентиментальности этой сцены Дику стало неловко за себя и за все сословие психиатров. Экран погас, в зале зажегся свет, настала долгожданная минута.
– У меня для вас еще один сюрприз, – во всеуслышание объявила Розмэри. – Я устроила Дику пробу.
– Что, что?
– Кинопробу. Сейчас его пригласят.
Зловещая пауза – потом кто-то из Нортов не удержал смешка. Розмэри, не сводя глаз с Дика, по его подвижному ирландскому лицу видела, как он постепенно осознает смысл сказанного, – и в то же время ей становилось ясно, что главный козырь разыгран ею неудачно; но она все еще не понимала, что неудачен самый козырь.
– Ни на какую пробу я не пойду, – твердо сказал Дик; но, оценив положение в целом, продолжал более добродушно: – Что это вам вздумалось, Розмэри! Кино – прекрасная карьера для женщины, а из меня едва ли можно сделать киногероя. Я старый сухарь, который знает только свой дом и свою науку.
Николь и Мэри стали поддразнивать его, уговаривая не упускать случая, – обе чуть раздосадованные тем, что сами не получили приглашения. Но Дик решительно перевел разговор на игру актеров, о которых отозвался довольно резко.
– Возьмите меня.
– Взять вас – куда?
Он оцепенел от изумления.
– Я вас прошу, – шептала она. – Сделайте со мной – ну все как есть. Ничего, если мне будет неприятно – наверно будет, – мне всегда было противно даже думать об этом, – но тут совсем другое дело. Я хочу, чтоб вы это сделали.
Для нее самой было неожиданностью, что она способна на такой разговор. Отозвалось все, о чем она читала, слышала, грезила в долгие годы ученья в монастырской школе. К тому же она каким-то чутьем понимала, что играет сейчас самую свою триумфальную роль, и вкладывала в нее все силы души.
– Что-то вы не то говорите, – попробовал урезонить ее Дик. – Не шампанское ли тут виновато? Давайте-ка замнем этот разговор.
– Ах нет, нет! Я прошу вас, возьмите меня, научите меня. Я ваша и хочу быть вашей совсем.
– Прежде всего, подумали ли вы, как больно было бы Николь?
– Она не узнает – к ней это не имеет отношения.
Он продолжал мягко и ласково:
– Потом, вы забываете, что я люблю Николь…
– А разве любить можно только кого-то одного? Ведь вот я люблю маму и люблю вас – еще больше, чем ее. Теперь – больше.
– …и наконец, никакой любви у вас сейчас ко мне нет, но она могла бы возникнуть, и это изломало бы вашу жизнь в самом ее начале.
– Но мы потом уже никогда не увидимся, обещаю вам. Я вызову маму, и мы с ней уедем в Америку.
Эту мысль он отогнал. Ему слишком хорошо помнилась юная свежесть ее губ. Он переменил тон.
– Все это – настроение, которое скоро пройдет.
– Нет, нет! И я не боюсь, если даже будет ребенок. Поеду в Мексику, как одна актриса с нашей студии. Ах, я никогда не думала, что со мной может быть так, мне всегда только противно бывало, когда меня целовали всерьез. – Ясно было, что она все еще верит, что это должно произойти. – У некоторых такие большие острые зубы, но вы совсем другой, вы красивый и замечательный. Ну, пожалуйста, сделайте это…
– А, я понял – вы просто думаете, что есть особого рода поцелуи, и хотите, чтобы я вас поцеловал именно так.
– Зачем вы смеетесь надо мной – я не ребенок. Я знаю, что у вас нет ко мне любви. Я на это и не рассчитывала. – Она вдруг присмирела и сникла. – Наверно, я вам кажусь ничтожеством.
– Глупости. Но вы мне кажетесь совсем еще девочкой. – Про себя он добавил: «…которую слишком многому пришлось бы учить».
Она молчала, напряженно дыша, пока Дик не договорил:
– И помимо всего жизнь так устроена, что эти вещи не бывают по заказу.
Розмэри понурила голову и отошла, подавленная обидой и разочарованием. Дик машинально начал было: «Лучше мы с вами просто…», но осекся, увидев, что она сидит на кровати и плачет, подошел и сел рядом. Ему вдруг стало не по себе; не то чтобы он усомнился в занятой нравственной позиции – слишком уж явной была невозможность иного решения, с какой стороны ни взгляни, – нет, ему просто было не по себе, и обычная его внутренняя гибкость, упругая полнота его душевного равновесия на короткое время изменила ему.
– Я знала, что вы не захотите, – рыдала Розмэри. – Нечего было и надеяться.
Он встал.
– Спокойной ночи, детка. Ужасно глупо все получилось. Давайте считать, что этого не было. – Он отмерил ей дозу успокаивающей банальщины в качестве снотворного: – Вас многие еще будут любить, а когда-нибудь вы и сами полюбите и, наверно, порадуетесь, что пришли к своей первой любви нетронутою и физически и душевно. Немножко старомодный взгляд, пожалуй?
Она подняла голову и увидела, как он сделал шаг к двери; она смотрела на него, даже отдаленно не догадываясь, что в нем происходит, она увидела, как он медленно сделал еще шаг, потом оглянулся – и на миг ей захотелось броситься ему вслед, впиться в него, почувствовать его рот, его уши, ворот его пиджака, захотелось обвиться вокруг него и вобрать его в себя; но уже его рука легла на дверную ручку. Больше нечего было ждать. Когда дверь за ним затворилась, она встала, подошла к зеркалу и, тихонечко всхлипывая, стала расчесывать волосы щеткой. Сто пятьдесят взмахов, положенных ежевечерне, потом еще сто пятьдесят. Розмэри водила щеткой по волосам, пока у нее не заболела рука, тогда она переменила руку и продолжала водить…
XVI
За ночь Розмэри остыла и проснулась с чувством стыда. Из зеркала глянуло на нее хорошенькое личико, но это ее не успокоило, а лишь всколыхнуло вчерашнюю боль; не помогло и пересланное матерью письмо, извещавшее о приезде в Париж того студента, чьей гостьей она была на прошлогоднем йельском балу, – все это теперь казалось бесконечно далеким. Она вышла из своей комнаты, ожидая встречи с Дайверами как пытки – сегодня мучительной вдвойне. Но никто не разглядел бы этого под внешней оболочкой, столь же непроницаемой, как у Николь, когда они встретились, чтобы вместе провести утро в примерках и покупках. И все же приятно было, когда Николь заметила по поводу нервозности какой-то продавщицы: «Многие люди склонны преувеличивать отношение к себе других – почему-то им кажется, что они у каждого вызывают сложную гамму симпатий и антипатии». Еще вчера такое замечание заставило бы экспансивную Розмэри внутренне вознегодовать, сегодня же она выслушала его с радостью – так ей хотелось убедить себя, что не произошло ничего страшного. Она восхищалась Николь, ее красотой, ее умом, но в то же время она впервые в жизни ревновала. Перед самым отъездом с Ривьеры мать в разговоре с ней назвала Николь красавицей; это было сказано тем небрежным тоном, которым она всегда – Розмэри хорошо это знала – маскировала самые значительные свои суждения, и должно было означать, что Розмэри такого названия не заслуживает. Розмэри это нимало не задело; она с детства была приучена считать себя чуть ли не дурнушкой и свою недавно лишь признанную миловидность воспринимала как что-то не присущее ей, а скорей благоприобретенное, вроде умения говорить по-французски. Но сейчас, сидя возле Николь в такси, она невольно сравнивала ее с собой. Казалось, в Николь все словно создано для романтической любви, это стройное тело, этот нежный рот, иногда плотно сжатый, иногда полураскрытый в доверчивом ожидании. Николь была красавицей с юных лет, и было видно, что она останется красавицей и тогда, когда ее кожа, став суше, обтянет высокие скулы, – такой склад лица не мог измениться. Раньше она была по-саксонски розовой и белокурой, но теперь, с потемневшими волосами, стала даже лучше, чем тогда, когда золотистое облако вокруг лба затмевало всю остальную ее красоту.
На Rue de Saints P?res Розмэри вдруг указала на один дом и сказала:
– Вот здесь мы жили.
– Как странно! Когда мне было двенадцать лет, мы с мамой и с Бэби, моей сестрой, провели зиму вон в том отеле напротив.
Два серых фасада глазели на них с двух сторон – тусклые отголоски детства.
– У нас тогда достраивался наш дом в Лейк-Форест, и нужно было экономить, – продолжала Николь. – То есть экономили мы с Бэби и с гувернанткой, а мама путешествовала.
– Нам тоже нужно было экономить, – сказала Розмэри, понимая, что смысл этого слова для них неодинаков.
– Мама всегда выражалась очень деликатно: не «дешевый отель», как следовало бы сказать, а «небольшой отель». – Николь засмеялась своим магнетическим коротким смешком. – Если кто-нибудь из наших светских знакомых спрашивал наш адрес, мы никогда не говорили: «Мы живем в квартале апашей, в дрянной лачуге, где спасибо, если вода идет из крана», мы говорили: «Мы живем в небольшом отеле». Словно бы все большие отели для нас чересчур шумны и вульгарны. Конечно, знакомые отлично все понимали и рассказывали об этом направо и налево, но мама всегда утверждала, что в Европе нужно уметь жить и она умеет. Еще бы ей не уметь, ведь она родилась в Германии. Но мать ее была американкой, и выросла она в Чикаго, и американского в ней было гораздо больше, чем европейского.
До встречи со всеми прочими оставались считаные минуты, но Розмэри успела перестроиться на новый лад, прежде чем такси остановилось на Rue Guinemer, против Люксембургского сада. Завтракать решено было у Нортов, в их уже разоренной квартире под самой крышей, окнами выходившей на густую зелень древесных крон. Розмэри казалось, что даже солнце светит сегодня не так, как вчера. Но вот она очутилась лицом к лицу с Диком, их взгляды встретились, точно птицы задели друг друга крылом на лету. И вмиг стало все хорошо, все прекрасно, она поняла: он уже почти ее любит. Сумасшедшая радость охватила ее, живое тепло побежало по телу. Какой-то ясный спокойный голос запел внутри и все крепнул и набирал силу. Она почти не смотрела на Дика, но твердо знала, что все хорошо.
После завтрака Розмэри с Дайверами и Нортами отправилась в студию «Франко-Америкен филмз»; туда же должен был приехать и Коллис Клэй, ее нью-хейвенский приятель, с которым она сговорилась по телефону. Этот молодой человек, родом из Джорджии, отличался той необыкновенной прямолинейностью и даже трафаретностью суждений, которая свойственна южанам, приехавшим на Север получать образование. Прошлой зимой Розмэри находила его очень милым и однажды, когда они ехали на машине из Нью-Хейвена в Нью-Йорк, позволила ему всю дорогу держать ее руку в своей; но сейчас он для нее попросту не существовал.
В просмотровом зале она сидела между Коллисом Клэем и Диком; у механика что-то заело в аппарате, и, пока он возился, налаживая его, какой-то француз из администрации увивался вокруг Розмэри, стараясь изъясняться новейшим американским сленгом. Но вот в зале погас свет, что-то знакомо щелкнуло, зажужжало, и они с Диком наконец остались одни. В полутьме они глянули друг на друга.
– Розмэри, милая, – прошептал Дик. Их плечи соприкоснулись. Николь беспокойно задвигалась на своем месте в конце ряда, а Эйб долго кашлял и сморкался; потом все успокоилось, и на экране замелькали кадры.
И вот она – прошлогодняя школьница с распущенными волосами, неподвижно струящимися вдоль спины, точно твердые волосы танагрской статуэтки; вот она – такая юная и невинная, плод ласковых материнских забот; вот она – воплощенная инфантильность Америки, новая бумажная куколка для услады ее куцей проститучьей души. Розмэри вспомнила, какой обновленной и свежей она чувствовала себя под свежим упругим шелком этого платья.
Папина дочка. Такая малипуся, а ведь чего только не натерпелась, бедненькая. Кисонька-лапочка, храброе маленькое сердечко. Перед этим крохотным кулачком отступали похоть и разврат, судьба и та оборачивалась по-иному, логика, диалектика, здравый смысл теряли всякую силу. Женщины, позабыв про горы немытой посуды дома, плакали в три ручья; даже в самом фильме одна женщина плакала так много, что едва не оттеснила в нем Розмэри на задний план. Она плакала в декорациях, стоивших целое состояние, в столовой в стиле Данкена Файфа[15 - Файф Данкен (ок. 1768–1854) – декоратор и мебельный мастер, чьи поздние работы отличались тяжеловесностью и претенциозной орнаментальностью.], в аэропорту, на реке во время парусных гонок, из которых вошло в картину только два кадра, в вагоне метро и, наконец, в туалетной. Но победа все же осталась за Розмэри. Благородство натуры, смелость и решительность помогли ей устоять против царящей в мире пошлости; все тяготы выдержанной борьбы читались на лице Розмэри, еще не успевшем превратиться в привычную маску, – и так по-настоящему трогательна была ее игра, что симпатии всего ряда зрителей то и дело устремлялись к ней. Картина шла с одним перерывом; как только дали свет, все наперебой принялись выражать свое восхищение, а Дик, переждав общий шум, сказал просто и искренне: «Вы меня потрясли. Уверен, что вы станете одной из лучших актрис нашего времени».
И снова на экране «Папина дочка». Житейские бури улеглись. Розмэри и ее родитель нашли друг друга, и все закончилось нежной сценой, кровосмесительная тенденция которой была так очевидна, что от слащавой сентиментальности этой сцены Дику стало неловко за себя и за все сословие психиатров. Экран погас, в зале зажегся свет, настала долгожданная минута.
– У меня для вас еще один сюрприз, – во всеуслышание объявила Розмэри. – Я устроила Дику пробу.
– Что, что?
– Кинопробу. Сейчас его пригласят.
Зловещая пауза – потом кто-то из Нортов не удержал смешка. Розмэри, не сводя глаз с Дика, по его подвижному ирландскому лицу видела, как он постепенно осознает смысл сказанного, – и в то же время ей становилось ясно, что главный козырь разыгран ею неудачно; но она все еще не понимала, что неудачен самый козырь.
– Ни на какую пробу я не пойду, – твердо сказал Дик; но, оценив положение в целом, продолжал более добродушно: – Что это вам вздумалось, Розмэри! Кино – прекрасная карьера для женщины, а из меня едва ли можно сделать киногероя. Я старый сухарь, который знает только свой дом и свою науку.
Николь и Мэри стали поддразнивать его, уговаривая не упускать случая, – обе чуть раздосадованные тем, что сами не получили приглашения. Но Дик решительно перевел разговор на игру актеров, о которых отозвался довольно резко.