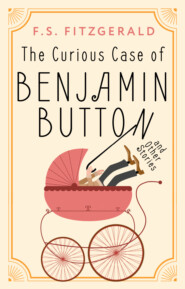По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ночь нежна
Жанр
Серия
Год написания книги
1934
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
С помощью Николь Розмэри купила на свои деньги два платья, две шляпы и четыре пары туфель. Николь делала покупки по списку, занимавшему две страницы, а кроме того, покупала все приглянувшееся ей в витринах, то, что не могло сгодиться ей самой, она покупала в подарок друзьям. Она накупила пестрых бус, искусственных цветов, надувных подушек для пляжа, сумок, шалей, цветочного меда и штук десять купальных костюмов. Купила резинового крокодила, кровать-раскладушку, мебель для кукольного домика, пару попугайчиков-неразлучников, отрез новомодной материи с перламутровым отливом, дорожные шахматы слоновой кости с золотом, дюжину полотняных носовых платков для Эйба, две замшевые куртки от Гермеса – одну цвета морской волны, другую цвета клубники со сливками. Она покупала вещи не так, как это делает дорогая куртизанка, для которой белье или драгоценности – это, в сущности, и орудия производства, и помещение капитала, – нет, тут было нечто в корне иное. Чтобы Николь существовала на свете, затрачивалось немало искусства и труда. Ради нее мчались поезда по круглому брюху континента, начиная свой бег в Чикаго и заканчивая в Калифорнии; дымили фабрики жевательной резинки и все быстрей двигались трансмиссии у станков; рабочие замешивали в чанах зубную пасту и цедили из медных котлов благовонный эликсир; в августе работницы спешили консервировать помидоры, а перед Рождеством сбивались с ног продавщицы в магазинах стандартных цен; индейцы-полукровки гнули спину на бразильских кофейных плантациях, а витавшие в облаках изобретатели вдруг узнавали, что патент на их детище присвоен другими, – все они и еще многие платили Николь свою десятину. То была целая сложная система, работавшая бесперебойно в грохоте и тряске, и оттого, что Николь являлась частью этой системы, даже такие ее действия, как эти оптовые магазинные закупки, озарялись особым светом, подобным ярким отблескам пламени на лице кочегара, стоящего перед открытой топкой. Она наглядно иллюстрировала очень простые истины, неся в себе самой свою неотвратимую гибель, но при этом была полна такого обаяния, что Розмэри невольно захотелось подражать ей.
Было уже почти четыре часа. Стоя посреди магазина с зеленым попугайчиком на плече, Николь разговорилась – что с ней бывало нечасто.
– А ведь если б вам не пришлось прыгать в воду в тот зимний день… Странно иногда получается в жизни. Я помню, перед самой войной мы жили в Берлине – это было незадолго до смерти мамы, мне тогда шел четырнадцатый год. Бэби, моя сестра, получила приглашение на придворный бал, и в ее книжечке три танца были записаны за принцами крови – все это удалось устроить через одного камергера. За полчаса до начала сборов у нее вдруг жар и сильная боль в животе справа. Врач признал аппендицит и сказал, что нужна операция. Но мама не любила отказываться от своих планов; и вот сестре под бальным платьем привязали пузырь со льдом, и она поехала на бал и танцевала до двух часов ночи, а в семь утра ей сделали операцию.
Выходило, что жестоким быть нужно; самые симпатичные люди жестоки по отношению к самим себе. Между тем часы уже показывали четыре, и Розмэри не давала покоя мысль о Дике, который сидит в отеле и ждет Николь. Почему же та не едет, почему заставляет его ждать? Мысленно она торопила Николь: «Да поезжайте же!» В какую-то минуту она едва не крикнула: «Давайте я поеду, если вам это ни к чему!» Но Николь зашла еще в один магазин, где выбрала по букетику к платьям себе и Розмэри и такой же велела отправить с посыльным Мэри Норт. Только после этого она, видимо, вспомнила – взгляд у нее сделался рассеянный, и она подозвала проезжающее такси.
– Мы премило провели время, правда? – сказала она, прощаясь.
– Чудесно, – отозвалась Розмэри. Она не думала, что это будет так трудно; все в ней бунтовало, когда она смотрела вслед удалявшемуся такси.
XIII
Дик обогнул траверс и продолжал идти по дощатому настилу на дне траншеи. Посмотрел в попавшийся на пути перископ, потом стал на стрелковую ступень и выглянул из-за бруствера. Впереди, под мутным сереньким небом, был виден Бомон-Гамель, слева памятником трагедии высилась гора Типваль. Дик поднес к глазам полевой бинокль, тягостное чувство сдавило ему горло.
Он пошел по траншее дальше и у следующего траверса нагнал своих спутников. Ему не терпелось передать другим переполнявшее его волнение, заставить их все почувствовать и все понять; а между тем ему ведь ни разу не пришлось побывать в бою – в отличие от Эйба Норта, например.
– Каждый фут этой земли обошелся тем летом в двадцать тысяч человеческих жизней[10 - …в двадцать тысяч человеческих жизней… – речь идет о наступлении немецких частей в районе Амьена в марте – апреле 1918 г. После тяжелых боев, в ходе которых стороны потеряли свыше 200 тысяч солдат каждая, наступление было остановлено.], – сказал он Розмэри.
Она послушно обвела взглядом унылую равнину, поросшую низенькими шестилетними деревцами. Скажи Дик, что сами они сейчас находятся под артиллерийским обстрелом, она бы и этому поверила. Ее любовь наконец достигла той грани, за которой начинается боль и отчаяние. Она не знала, что делать, – а матери не было рядом.
– С тех пор немало еще поумирало народу, и все мы тоже скоро умрем, – утешил Эйб.
Розмэри неотрывно смотрела на Дика, ожидая продолжения его речи.
– Вон видите речушку – не больше двух минут ходу отсюда? Так вот англичанам понадобился тогда месяц, чтобы до нее добраться. Целая империя шла вперед, за день продвигаясь на несколько дюймов; падали те, кто был в первых рядах, их место занимали шедшие сзади. А другая империя так же медленно отходила назад, и только убитые оставались лежать бессчетными грудами окровавленного тряпья. Такого больше не случится в жизни нашего поколения, ни один европейский народ не отважится на это.
– В Турции только-только перестали воевать, – сказал Эйб. – И в Марокко…
– То другое дело. А Западный фронт в Европе повторить нельзя и не скоро можно будет. И напрасно молодежь думает, что ей это по силам. Еще первое Марнское сражение можно было б повторить, но то, что произошло здесь, – нет, никак. Для того, что произошло здесь, потребовалось многое – вера в бога, и годы изобилия, и твердые устои, и отношения между классами, как они сложились именно к тому времени. Итальянцы и русские для этого фронта не годились. Тут нужен был фундамент цельных чувств, которые старше тебя самого. Нужно было, чтобы в памяти жили рождественские праздники, и открытки с портретами кронпринца и его невесты, и маленькие кафе Валанса, и бракосочетания в мэрии, и поездки на дерби, и дедушкины бакенбарды.
– Такую тактику битвы придумал еще генерал Грант[11 - Грант Улисс Симпсон (1822–1885) – главнокомандующий войсками Севера в годы Гражданской войны в США, победитель в ее решающих сражениях – при Питерсберге и Аппоматоксе. Президент США в 1867–1877 гг. До войны был мелким торговцем. В годы своего президентства снискал нелестную славу взяточника.] – в тысяча восемьсот шестьдесят пятом – при Питерсберге.
– Неправда, то, что придумал генерал Грант, было обыкновенной массовой бойней. А то, о чем говорю я, идет от Льюиса Кэролла, и Жюля Верна, и того немца, который написал «Ундину»[12 - «Ундина» (1811) – романтическая повесть Фридриха де ла Мотта Фуке (1777–1843) о любви русалки к рыцарю, на основе которой написана одноименная опера Э.-Т.-А. Гофмана.], и деревенских попиков, любителей поиграть в кегли, и марсельских marraines[13 - Кумушек (фр.).], и обольщенных девушек из захолустий Вестфалии и Вюртемберга. В сущности, здесь ведь разыгралась любовная битва – целый век любви буржуа пошел на то, чтоб удобрить это поле. Это была последняя любовная битва в истории.
– Еще немного, и вы отдадите ее авторство Д.-Г. Лоуренсу[14 - Лоуренс Дэвид Герберт (1885–1930) – английский писатель. В годы, когда происходит действие романа «Ночь нежна», оживленно комментировалось решение судебных инстанций, запретивших роман Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей» (1928) за чрезмерную откровенность интимных сцен.], – сказал Эйб.
– Весь мой прекрасный, милый, благополучный мир взлетел тут на воздух от запала любовной взрывчатки, – не унимался Дик. – Ведь так, Розмэри?
– Не знаю, – сосредоточенно сдвинув брови, сказала она. – Это вы все знаете.
Они чуть поотстали от прочих. Вдруг их обдало градом камешков и комков земли, а из-за ближайшего траверса послышался громкий голос Эйба:
– Дух старого бойца проснулся во мне. За мной ведь тоже целый век любви – любви в штате Огайо. Сейчас вот разбомблю к чертям эту траншею. – Он высунул голову из-за насыпи. – Вы что же, правил игры не знаете? Вы убиты – я в вас метнул ручную гранату.
Розмэри засмеялась, а Дик подобрал было горсть камешков для ответного залпа, но тут же выпустил их из рук.
– Не могу дурачиться в таком месте, – сказал он почти виноватым тоном. – Пусть серебряная цепочка порвалась и разбился кувшин у источника и как там дальше – но я старый романтик, и с этим ничего не поделаешь.
– Я тоже романтик.
Они выбрались из аккуратно реставрированной траншеи и прямо перед собой увидели памятник павшим ньюфаундлендцам. Читая надпись на памятнике, Розмэри вдруг разрыдалась. Как большинство женщин, она любила, когда ей подсказывали, что и когда она должна чувствовать, и ей нравились поучения Дика: вот это смешно, а вот это печально. Но больше всего ей хотелось, чтобы Дик понял, как сильно она его любит – теперь, когда эта любовь перевернула для нее все на свете, когда она даже по полю сражения ходит будто в прекрасном сне.
Они сели в машину и поехали обратно в Амьен. Теплый реденький дождик сеялся на низкорослые деревья и кусты, по сторонам то и дело попадались сложенные, точно для гигантских погребальных костров, артиллерийские стаканы, бомбы, гранаты и всяческая амуниция – каски, штыки, ружейные приклады, полусгнившие ремни, шесть лет пролежавшие в земле. И вдруг за поворотом дороги запенилось белыми гребешками целое море могил. Дик велел шоферу остановиться.
– Смотрите, та рыженькая девушка так и не пристроила свой венок.
Он вышел и направился к девушке с большим венком в руках, растерянно стоявшей у ворот кладбища. Рядом дожидалось такси. Это была молоденькая американка из Теннесси, приехавшая возложить цветы на могилу своего брата, – они познакомились с ней утром в поезде. Сейчас лицо у нее было сердитое и заплаканное.
– Наверно, в военном министерстве перепутали номер, – пожаловалась она Дику. – На той могиле совсем другое имя. Я с двух часов ищу, но их тут столько, разве найдешь.
– А вы на имя не смотрите, положите цветы на любую могилу, – посоветовал Дик.
– По-вашему, это будет правильно?
– По-моему, он бы вас похвалил за это.
Уже темнело, и дождь усиливался. Девушка положила венок на ближайшую к воротам могилу и охотно приняла предложение Дика отпустить такси и ехать в Амьен с ними.
Розмэри, услышав об этой чужой незадаче, опять всплакнула – такой уж мокрый выдался день; но все же ей казалось, что он ей принес что-то новое, хотя и неясно было, что именно. Потом, в воспоминаниях, все в этой поездке представлялось ей сплошь прекрасным – бывают такие ничем не примечательные часы или дни, которые воспринимаешь просто как переход от вчерашней радости к завтрашней, а оказывается, в них-то самая радость и была.
Амьен, лиловатый и гулкий, все еще хранил скорбный отпечаток войны, как некоторые вокзалы – Gare du Nord, например, или вокзал Ватерлоо в Лондоне. Днем такие города нагоняют тоску, смотришь, как старомодный трамвайчик тарахтит по пустынной, мощенной серым булыжником соборной площади, – и даже самый воздух кажется старомодным, выцветшим от времени, как старые фотографии. Но приходит вечер, и все, чем особенно мил французский быт, возвращается на ожившие улицы – бойкие проститутки, неуемные спорщики в кафе, пересыпающие свою речь бессчетными «Voila!», парочки, что блуждают, щека к щеке, довольные дешевизной этой прогулки в никуда. В ожидании поезда Дик и его спутники сели за столик под аркадой, где высокие своды вбирали и музыку, и гомон, и дым; оркестр в их честь исполнил «У нас нет больше бананов», и они поаплодировали дирижеру, явно очень довольному собой. Девушка из Теннесси забыла свои огорчения и веселилась от души, даже стала кокетничать с Диком и Эйбом, пуская в ход знойные взгляды и игривые телодвижения, а они добродушно подзадоривали ее.
Наконец парижский поезд пришел, и они уехали, а земля, в которой под теплым дождем распадались и тлели вюртембержцы, альпийские стрелки, солдаты прусской гвардии, ткачи из Манчестера и питомцы Итонской школы, осталась позади. Они ели бутерброды с болонской колбасой и сыром bel paese, приготовленные в станционном буфете, и запивали их вином Beaujolais. Николь казалась рассеянной; она нервно покусывала губы, углубясь в путеводители, которые захватил с собой Дик, – да, он успел неплохо изучить обстоятельства Амьенской битвы, кое-что сгладил, и в конце концов вся операция приобрела у него неуловимое сходство с приемами в дайверовском доме.
XIV
Вечером они еще собирались посмотреть при электрическом освещении Выставку декоративного искусства, но по приезде в Париж Николь сказала, что устала и не пойдет. Они довезли ее до отеля «Король Георг», и когда она скрылась за пересекающимися плоскостями, образованными игрою света в стеклянных дверях, у Розмэри стало легче на душе. Николь была сила, и, быть может, вовсе не добрая; во всяком случае, с ней нельзя было ничего предвидеть заранее – не то что с матерью, например. Розмэри ее немножко боялась.
Около одиннадцати Розмэри, Норты и Дик зашли в кафе-поплавок, недавно открытое на Сене. В воде, серебристо мерцавшей под фонарями, покачивались десятки холодных лун. Когда Розмэри жила в Париже с матерью, они по воскресеньям ездили иногда на пароходике до Сюрена и дорогой строили планы на будущее. У них было очень немного денег, но миссис Спирс, твердо веря в красоту Розмэри и в честолюбивые стремления, которые сама постаралась ей внушить, готова была рискнуть всем, что имела; потом, когда девочка станет на ноги, она с лихвой возместит матери все затраты…
Эйб Норт с самого их приезда в Париж все время был слегка под хмельком; глаза у него покраснели от солнца и вина. В этот вечер Розмэри впервые заметила, что он не пропускает ни одного заведения, где можно выпить, и ей пришло в голову, что вряд ли это очень приятно Мэри Норт. Мэри обычно мало разговаривала, хотя легко и охотно смеялась, – настолько мало, что Розмэри, в сущности, ничего не успела о ней узнать. Розмэри нравились ее прямые черные волосы, зачесанные назад и только на затылке рассыпавшиеся пышным естественным каскадом; время от времени выбившаяся прядь, косо упав на лоб, лезла в глаза, и тогда она встряхивала головой, чтобы заставить ее лечь на место.
– После этой бутылки мы идем домой, Эйб. – Голос Мэри звучал ровно, но в нем пробивалась нотка тревоги. – А то придется тебя грузить на пароход в жидком состоянии.
– Да всем пора домой, – сказал Дик. – Уже поздно.
Но Эйб упрямо сдвинул свои царственные брови.
– Нет, нет. – И после внушительной паузы: – Торопиться ни к чему. Мы должны распить еще бутылку шампанского.
– Я больше пить не буду, – сказал Дик.
– А Розмэри будет. Она ведь завзятый алкоголик – у нее всегда припрятана в ванной бутылка джину. Мне миссис Спирс рассказывала.
Он вылил остатки шампанского в бокал Розмэри. В их первый день в Париже Розмэри выпила столько лимонаду, что почувствовала себя плохо, и после этого уже вообще ни к каким напиткам не прикасалась. Но сейчас она взяла налитый ей бокал и поднесла к губам.
– Вот тебе и раз! – воскликнул Дик. – Вы же говорили, что никогда не пьете.
Было уже почти четыре часа. Стоя посреди магазина с зеленым попугайчиком на плече, Николь разговорилась – что с ней бывало нечасто.
– А ведь если б вам не пришлось прыгать в воду в тот зимний день… Странно иногда получается в жизни. Я помню, перед самой войной мы жили в Берлине – это было незадолго до смерти мамы, мне тогда шел четырнадцатый год. Бэби, моя сестра, получила приглашение на придворный бал, и в ее книжечке три танца были записаны за принцами крови – все это удалось устроить через одного камергера. За полчаса до начала сборов у нее вдруг жар и сильная боль в животе справа. Врач признал аппендицит и сказал, что нужна операция. Но мама не любила отказываться от своих планов; и вот сестре под бальным платьем привязали пузырь со льдом, и она поехала на бал и танцевала до двух часов ночи, а в семь утра ей сделали операцию.
Выходило, что жестоким быть нужно; самые симпатичные люди жестоки по отношению к самим себе. Между тем часы уже показывали четыре, и Розмэри не давала покоя мысль о Дике, который сидит в отеле и ждет Николь. Почему же та не едет, почему заставляет его ждать? Мысленно она торопила Николь: «Да поезжайте же!» В какую-то минуту она едва не крикнула: «Давайте я поеду, если вам это ни к чему!» Но Николь зашла еще в один магазин, где выбрала по букетику к платьям себе и Розмэри и такой же велела отправить с посыльным Мэри Норт. Только после этого она, видимо, вспомнила – взгляд у нее сделался рассеянный, и она подозвала проезжающее такси.
– Мы премило провели время, правда? – сказала она, прощаясь.
– Чудесно, – отозвалась Розмэри. Она не думала, что это будет так трудно; все в ней бунтовало, когда она смотрела вслед удалявшемуся такси.
XIII
Дик обогнул траверс и продолжал идти по дощатому настилу на дне траншеи. Посмотрел в попавшийся на пути перископ, потом стал на стрелковую ступень и выглянул из-за бруствера. Впереди, под мутным сереньким небом, был виден Бомон-Гамель, слева памятником трагедии высилась гора Типваль. Дик поднес к глазам полевой бинокль, тягостное чувство сдавило ему горло.
Он пошел по траншее дальше и у следующего траверса нагнал своих спутников. Ему не терпелось передать другим переполнявшее его волнение, заставить их все почувствовать и все понять; а между тем ему ведь ни разу не пришлось побывать в бою – в отличие от Эйба Норта, например.
– Каждый фут этой земли обошелся тем летом в двадцать тысяч человеческих жизней[10 - …в двадцать тысяч человеческих жизней… – речь идет о наступлении немецких частей в районе Амьена в марте – апреле 1918 г. После тяжелых боев, в ходе которых стороны потеряли свыше 200 тысяч солдат каждая, наступление было остановлено.], – сказал он Розмэри.
Она послушно обвела взглядом унылую равнину, поросшую низенькими шестилетними деревцами. Скажи Дик, что сами они сейчас находятся под артиллерийским обстрелом, она бы и этому поверила. Ее любовь наконец достигла той грани, за которой начинается боль и отчаяние. Она не знала, что делать, – а матери не было рядом.
– С тех пор немало еще поумирало народу, и все мы тоже скоро умрем, – утешил Эйб.
Розмэри неотрывно смотрела на Дика, ожидая продолжения его речи.
– Вон видите речушку – не больше двух минут ходу отсюда? Так вот англичанам понадобился тогда месяц, чтобы до нее добраться. Целая империя шла вперед, за день продвигаясь на несколько дюймов; падали те, кто был в первых рядах, их место занимали шедшие сзади. А другая империя так же медленно отходила назад, и только убитые оставались лежать бессчетными грудами окровавленного тряпья. Такого больше не случится в жизни нашего поколения, ни один европейский народ не отважится на это.
– В Турции только-только перестали воевать, – сказал Эйб. – И в Марокко…
– То другое дело. А Западный фронт в Европе повторить нельзя и не скоро можно будет. И напрасно молодежь думает, что ей это по силам. Еще первое Марнское сражение можно было б повторить, но то, что произошло здесь, – нет, никак. Для того, что произошло здесь, потребовалось многое – вера в бога, и годы изобилия, и твердые устои, и отношения между классами, как они сложились именно к тому времени. Итальянцы и русские для этого фронта не годились. Тут нужен был фундамент цельных чувств, которые старше тебя самого. Нужно было, чтобы в памяти жили рождественские праздники, и открытки с портретами кронпринца и его невесты, и маленькие кафе Валанса, и бракосочетания в мэрии, и поездки на дерби, и дедушкины бакенбарды.
– Такую тактику битвы придумал еще генерал Грант[11 - Грант Улисс Симпсон (1822–1885) – главнокомандующий войсками Севера в годы Гражданской войны в США, победитель в ее решающих сражениях – при Питерсберге и Аппоматоксе. Президент США в 1867–1877 гг. До войны был мелким торговцем. В годы своего президентства снискал нелестную славу взяточника.] – в тысяча восемьсот шестьдесят пятом – при Питерсберге.
– Неправда, то, что придумал генерал Грант, было обыкновенной массовой бойней. А то, о чем говорю я, идет от Льюиса Кэролла, и Жюля Верна, и того немца, который написал «Ундину»[12 - «Ундина» (1811) – романтическая повесть Фридриха де ла Мотта Фуке (1777–1843) о любви русалки к рыцарю, на основе которой написана одноименная опера Э.-Т.-А. Гофмана.], и деревенских попиков, любителей поиграть в кегли, и марсельских marraines[13 - Кумушек (фр.).], и обольщенных девушек из захолустий Вестфалии и Вюртемберга. В сущности, здесь ведь разыгралась любовная битва – целый век любви буржуа пошел на то, чтоб удобрить это поле. Это была последняя любовная битва в истории.
– Еще немного, и вы отдадите ее авторство Д.-Г. Лоуренсу[14 - Лоуренс Дэвид Герберт (1885–1930) – английский писатель. В годы, когда происходит действие романа «Ночь нежна», оживленно комментировалось решение судебных инстанций, запретивших роман Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей» (1928) за чрезмерную откровенность интимных сцен.], – сказал Эйб.
– Весь мой прекрасный, милый, благополучный мир взлетел тут на воздух от запала любовной взрывчатки, – не унимался Дик. – Ведь так, Розмэри?
– Не знаю, – сосредоточенно сдвинув брови, сказала она. – Это вы все знаете.
Они чуть поотстали от прочих. Вдруг их обдало градом камешков и комков земли, а из-за ближайшего траверса послышался громкий голос Эйба:
– Дух старого бойца проснулся во мне. За мной ведь тоже целый век любви – любви в штате Огайо. Сейчас вот разбомблю к чертям эту траншею. – Он высунул голову из-за насыпи. – Вы что же, правил игры не знаете? Вы убиты – я в вас метнул ручную гранату.
Розмэри засмеялась, а Дик подобрал было горсть камешков для ответного залпа, но тут же выпустил их из рук.
– Не могу дурачиться в таком месте, – сказал он почти виноватым тоном. – Пусть серебряная цепочка порвалась и разбился кувшин у источника и как там дальше – но я старый романтик, и с этим ничего не поделаешь.
– Я тоже романтик.
Они выбрались из аккуратно реставрированной траншеи и прямо перед собой увидели памятник павшим ньюфаундлендцам. Читая надпись на памятнике, Розмэри вдруг разрыдалась. Как большинство женщин, она любила, когда ей подсказывали, что и когда она должна чувствовать, и ей нравились поучения Дика: вот это смешно, а вот это печально. Но больше всего ей хотелось, чтобы Дик понял, как сильно она его любит – теперь, когда эта любовь перевернула для нее все на свете, когда она даже по полю сражения ходит будто в прекрасном сне.
Они сели в машину и поехали обратно в Амьен. Теплый реденький дождик сеялся на низкорослые деревья и кусты, по сторонам то и дело попадались сложенные, точно для гигантских погребальных костров, артиллерийские стаканы, бомбы, гранаты и всяческая амуниция – каски, штыки, ружейные приклады, полусгнившие ремни, шесть лет пролежавшие в земле. И вдруг за поворотом дороги запенилось белыми гребешками целое море могил. Дик велел шоферу остановиться.
– Смотрите, та рыженькая девушка так и не пристроила свой венок.
Он вышел и направился к девушке с большим венком в руках, растерянно стоявшей у ворот кладбища. Рядом дожидалось такси. Это была молоденькая американка из Теннесси, приехавшая возложить цветы на могилу своего брата, – они познакомились с ней утром в поезде. Сейчас лицо у нее было сердитое и заплаканное.
– Наверно, в военном министерстве перепутали номер, – пожаловалась она Дику. – На той могиле совсем другое имя. Я с двух часов ищу, но их тут столько, разве найдешь.
– А вы на имя не смотрите, положите цветы на любую могилу, – посоветовал Дик.
– По-вашему, это будет правильно?
– По-моему, он бы вас похвалил за это.
Уже темнело, и дождь усиливался. Девушка положила венок на ближайшую к воротам могилу и охотно приняла предложение Дика отпустить такси и ехать в Амьен с ними.
Розмэри, услышав об этой чужой незадаче, опять всплакнула – такой уж мокрый выдался день; но все же ей казалось, что он ей принес что-то новое, хотя и неясно было, что именно. Потом, в воспоминаниях, все в этой поездке представлялось ей сплошь прекрасным – бывают такие ничем не примечательные часы или дни, которые воспринимаешь просто как переход от вчерашней радости к завтрашней, а оказывается, в них-то самая радость и была.
Амьен, лиловатый и гулкий, все еще хранил скорбный отпечаток войны, как некоторые вокзалы – Gare du Nord, например, или вокзал Ватерлоо в Лондоне. Днем такие города нагоняют тоску, смотришь, как старомодный трамвайчик тарахтит по пустынной, мощенной серым булыжником соборной площади, – и даже самый воздух кажется старомодным, выцветшим от времени, как старые фотографии. Но приходит вечер, и все, чем особенно мил французский быт, возвращается на ожившие улицы – бойкие проститутки, неуемные спорщики в кафе, пересыпающие свою речь бессчетными «Voila!», парочки, что блуждают, щека к щеке, довольные дешевизной этой прогулки в никуда. В ожидании поезда Дик и его спутники сели за столик под аркадой, где высокие своды вбирали и музыку, и гомон, и дым; оркестр в их честь исполнил «У нас нет больше бананов», и они поаплодировали дирижеру, явно очень довольному собой. Девушка из Теннесси забыла свои огорчения и веселилась от души, даже стала кокетничать с Диком и Эйбом, пуская в ход знойные взгляды и игривые телодвижения, а они добродушно подзадоривали ее.
Наконец парижский поезд пришел, и они уехали, а земля, в которой под теплым дождем распадались и тлели вюртембержцы, альпийские стрелки, солдаты прусской гвардии, ткачи из Манчестера и питомцы Итонской школы, осталась позади. Они ели бутерброды с болонской колбасой и сыром bel paese, приготовленные в станционном буфете, и запивали их вином Beaujolais. Николь казалась рассеянной; она нервно покусывала губы, углубясь в путеводители, которые захватил с собой Дик, – да, он успел неплохо изучить обстоятельства Амьенской битвы, кое-что сгладил, и в конце концов вся операция приобрела у него неуловимое сходство с приемами в дайверовском доме.
XIV
Вечером они еще собирались посмотреть при электрическом освещении Выставку декоративного искусства, но по приезде в Париж Николь сказала, что устала и не пойдет. Они довезли ее до отеля «Король Георг», и когда она скрылась за пересекающимися плоскостями, образованными игрою света в стеклянных дверях, у Розмэри стало легче на душе. Николь была сила, и, быть может, вовсе не добрая; во всяком случае, с ней нельзя было ничего предвидеть заранее – не то что с матерью, например. Розмэри ее немножко боялась.
Около одиннадцати Розмэри, Норты и Дик зашли в кафе-поплавок, недавно открытое на Сене. В воде, серебристо мерцавшей под фонарями, покачивались десятки холодных лун. Когда Розмэри жила в Париже с матерью, они по воскресеньям ездили иногда на пароходике до Сюрена и дорогой строили планы на будущее. У них было очень немного денег, но миссис Спирс, твердо веря в красоту Розмэри и в честолюбивые стремления, которые сама постаралась ей внушить, готова была рискнуть всем, что имела; потом, когда девочка станет на ноги, она с лихвой возместит матери все затраты…
Эйб Норт с самого их приезда в Париж все время был слегка под хмельком; глаза у него покраснели от солнца и вина. В этот вечер Розмэри впервые заметила, что он не пропускает ни одного заведения, где можно выпить, и ей пришло в голову, что вряд ли это очень приятно Мэри Норт. Мэри обычно мало разговаривала, хотя легко и охотно смеялась, – настолько мало, что Розмэри, в сущности, ничего не успела о ней узнать. Розмэри нравились ее прямые черные волосы, зачесанные назад и только на затылке рассыпавшиеся пышным естественным каскадом; время от времени выбившаяся прядь, косо упав на лоб, лезла в глаза, и тогда она встряхивала головой, чтобы заставить ее лечь на место.
– После этой бутылки мы идем домой, Эйб. – Голос Мэри звучал ровно, но в нем пробивалась нотка тревоги. – А то придется тебя грузить на пароход в жидком состоянии.
– Да всем пора домой, – сказал Дик. – Уже поздно.
Но Эйб упрямо сдвинул свои царственные брови.
– Нет, нет. – И после внушительной паузы: – Торопиться ни к чему. Мы должны распить еще бутылку шампанского.
– Я больше пить не буду, – сказал Дик.
– А Розмэри будет. Она ведь завзятый алкоголик – у нее всегда припрятана в ванной бутылка джину. Мне миссис Спирс рассказывала.
Он вылил остатки шампанского в бокал Розмэри. В их первый день в Париже Розмэри выпила столько лимонаду, что почувствовала себя плохо, и после этого уже вообще ни к каким напиткам не прикасалась. Но сейчас она взяла налитый ей бокал и поднесла к губам.
– Вот тебе и раз! – воскликнул Дик. – Вы же говорили, что никогда не пьете.