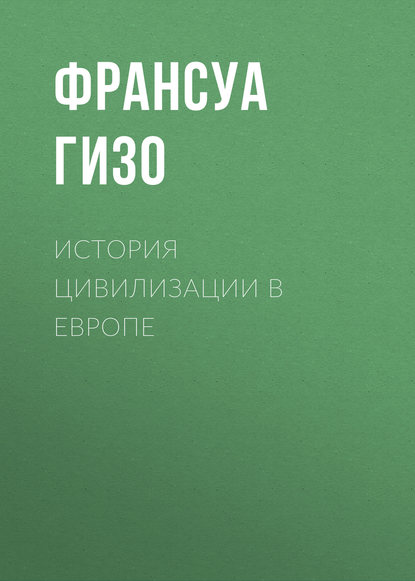По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
История цивилизации в Европе
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Королевская власть, как и народы, обязана уважать законы. Повинуясь воле небес, мы даем самим себе, наравне с нашими подданными, мудрые законы, которым наше собственное величество и величество наших преемников обязано повиноваться, подобно тому как повинуется им все народонаселение нашего королевства.
Бог, создатель всего мира, организуя человеческое тело, вверху его поставил голову и оттуда провел нервы во все части его. Он поместил в голове и светильник очей, с тем чтобы она могла различать все вредное. Он установил силу разума, возложив на нее управление всеми частями тела и мудрое распоряжение их действиями. Поэтому нужно прежде всего определить то, что касается государей, озаботиться о безопасности их, оградить его жизнь, и потом устроить все то, что относится к народам таким образом, чтобы обеспечивая как следует безопасность королей, обеспечить вместе с тем и безопасность народов»[14 - Forum judicum.].
Но в систему религиозной королевской власти с течением времени всегда входит другой, независимый от нее элемент. Рядом с нею появляется новая сила, более нежели сама королевская власть приближенная к Богу, т. е. к источнику этой власти. Между Богом и королями, между королями и народами становится духовенство, церковная власть; так что королевская власть, образ Божества на земле, подвергается опасности снизойти на степень орудия земных истолкователей божественной воли. Новая причина колебания самого учреждения.
Вот различные роды королевской власти, проявлявшиеся в V веке на развалинах Римской империи: власть варварская, власть императорская и власть религиозная, – последняя еще в самом начале своего развития. Участь их столь же разнородна, как и их начала. Во Франции варварская королевская власть преобладает во все время царствования первой династии. Были, правда, попытки духовенства сообщить ей императорский или религиозный характер; но господствующим принципом ее тем не менее остается избрание из среды королевского семейства, с некоторою примесью наследственности и религиозных идей.
В Италии, у остготов, императорская королевская власть обуздывает варварские обычаи. Теодорих признает себя преемником императоров. Чтобы удостовериться в этом, достаточно прочесть сочинения Кассиодора.
В Испании королевская власть представляется более религиозною, чем где бы то ни было. Верховная власть или, по крайней мере, преобладающее влияние принадлежит толедским соборам; поэтому религиозный характер господствует, если не собственно в управлении вестготских королей, то в законах, в принципах, которые внушает им духовенство.
В Англии, у саксов, почти вполне сохраняются варварские нравы. Королевства гептархии суть не что иное, как владения различных дружин, из которых каждая имеет своего начальника. Военное избрание здесь очевиднее, чем где-либо. У англосаксов мы находим коренной тип варварской королевской власти.
Таким образом, между V и VII веками, в ту эпоху, когда обнаруживаются все три рода королевской власти, каждый из них, смотря по обстоятельствам, получает перевес в одном из различных государств Европы.
Царивший в то время хаос был так велик, что не могло утвердиться никакого общего, постоянного учреждения. Переходя от одной превратности к другой, королевская власть достигла XIII столетия, не выработав никакого определенного характера.
Около половины VIII века, одновременно с торжеством второй династии франкских королей, события обобщаются, уясняются; они совершаются в больших размерах и потому легче могут быть поняты; последствия их становятся более заметными. В короткий промежуток времени все роды королевской власти сменяют друг друга, смешиваются, оставляя очевидные следы своего существования.
Когда Карловинги заступают место Меровингов, то при этом происходит заметное возвращение к принципу варварской королевской власти; опять проявляется избирательное начало, Пипина Короткого избирают в Суассоне. Первые Карловинги, наделяя своих сыновей королевствами, заботятся о том, чтобы важнейшие лица назначаемых государств признали новых королей; производя раздел, они не упускают из виду утверждение его народными собраниями. Словом, избирательное начало, в форме народного согласия, снова получает некоторое значение. Припомним, что воцарение династии Карловингов было до некоторой степени новым нашествием германцев на запад Европы и принесло с собою как бы призрак их древних учреждений, древних нравов.
В то же время религиозное начало яснее прежнего входит в состав королевской власти и начинает играть в ней более важную роль. Пипин признан и посвящен папою; она нуждается в религиозной санкции; папская власть уже могущественная сила, и потому он заискивает в ней. У Карла Великого та же забота, религиозная королевская власть развивается все более и более. Однако не она является господствующею отличительною чертою царствования Карла Великого; он очевидно стремится к восстановлению императорской монархической власти. Хотя он и вступает в союз с духовенством, но не служит орудием его, а скорее употребляет его для своих целей. Идея обширного государства, сильной политической единицы, восстановление Римской империи – вот любимая идея, любимая мечта Карла Великого.
Он умирает; ему наследует Людовик Благочестивый. Всем известно, каким характером облеклась на время королевская власть; король подпадает влиянию духовенства, которое судит его, низлагает, снова восстановляет, управляет им; по-видимому, религиозная королевская власть готовится окончательно снизойти на степень власти подчиненной. Итак, между срединою VIII и срединою IX века, проявляются три различных рода королевской власти.
По смерти Людовика Благочестивого, при том разъединении, в которое впадает Европа, все три рода королевской власти исчезают почти совершенно; все смешивается в одну нестройную массу. Чрез несколько времени, когда феодальное устройство получает преобладание, является четвертый род королевской власти, отличный от всех, до этих пор рассмотренных нами, – это феодальная королевская власть. Она весьма сложна и с трудом поддается определению. Говорили, что король в феодальной системе был сюзереном из сюзеренов, сеньором из сеньоров, что он находился в прочной иерархической связи с целым обществом и что, собирая вокруг себя своих вассалов, потом вассалов своих вассалов и т. д., он собирал весь народ и являлся королем в полном смысле этого слова. Правда, такова теория феодальной королевской власти; но это чистая, отвлеченная теория, никогда не имевшая приложения на практике. Это общее влияние короля чрез посредство иерархической организации, эта связь, соединявшая королевскую власть с целым феодальным обществом, – все это не что иное, как мечты историков. На самом деле большинство феодальных владельцев были в эту эпоху совершенно независимы от королевской власти; многие из них едва знали ее по имени и имели с нею весьма мало сношений, а иногда и вовсе не имели их. Все власти были местные, независимые. Имя короля, носимое одним из феодальных владык, представляло собою скорее воспоминание, нежели факт.
Вот состояние королевской власти в X и XI веках. В XII веке, в царствование Людовика Толстого, положение дел начинает изменяться: чаще слышится имя короля, влияние его проникает в такие места, которые были для него прежде недоступны, роль его в обществе становится более деятельною. Если мы спросим себя, на основании какого права совершалось такое преобразование, то не узнаем ни одного из прав, во имя которых до тех пор действовала королевская власть. Теперь она расширяется и укрепляется уже не как наследствие римских императоров, не во имя императорской монархии и не в силу избирательного права, а также не в силу права Божественного. Всякие признаки избирательного права исчезли: принцип наследственности престола восторжествовал окончательно, и хотя религия и освящает еще воцарение королей, но никто, по-видимому, не обращает больше внимания на религиозный характер королевской власти. Новый элемент, небывалый прежде, появляется в королевской власти; она вступает в новый период своего существования.
Общество, как уже сказано, находилось в то время в состоянии анархическом; оно было жертвою беспрестанных насилий. Оно само не обладало никакими средствами к выходу из этого печального состояния, оно не могло восстановить в своей среде никакой правильности, никакого единства. Феодальные учреждения, парламенты баронов, сеньоральные суды, все формы, под которыми в новейшее время выставляли феодализм как систематическую и правильную организацию, – все это в действительности было лишено силы и не могло служить к водворению порядка и справедливости. Среди общественных бедствий не знали к кому прибегнуть, чтобы прекратить вопиющую несправедливость, загладить великое зло, словом, чтобы устроить государство. Оставалось имя короля; его носил феодальный владелец, – к нему и обратились в этой крайности. Различные права, которыми до того времени обладала королевская власть, не имели большого значения, но память о них сохранялась во многих умах; в некоторых случаях они, впрочем, давали себя чувствовать. К королю начали прибегать, когда нужно было остановить возмутительное насилие, водворить некоторый порядок в местах, соседних с королевскою резиденциею, прекратить какой-либо продолжительный спор. На разрешение короля стали поступать дела, не имевшие прямого отношения к его собственным интересам; он начал действовать как покровитель общественного порядка, как посредник, как гонитель неправды. Властью этою, увеличивавшеюся все более и более, он был обязан нравственному авторитету, с которым не переставало соединяться его имя.
Таков характер, который носит королевская власть со времен Людовика Толстого и аббата Сугерия. В первый раз зарождается в умах, хотя и слабо, неполно, неопределенно, идея общественной власти, отличной от всех местных властей, в руках которых находится общество, – власти предназначенной воздавать справедливость тем, кто не может получить ее обыкновенными средствами, способной установить или, по крайней мере, узаконить порядок; зарождается идея высшей власти, существенное призвание которой – поддерживать и восстановлять спокойствие, покровительствовать слабым, разрешать споры, которым никто не может положить конца. Вот совершенно иной характер, который с XII века в Европе, и особенно во Франции, становится принадлежностью королевской власти. Она уже не может быть признана ни религиозною, ни варварскою, ни императорскою; сила ее ограничена, неполна, случайна; это как бы власть (я не знаю более точного выражения) высшего мирового судьи в государстве.
Таково истинное происхождение новейшей королевской власти, ее жизненный принцип, развившийся в ее деятельности и, скажу не колеблясь, решивший успех ее. В различные эпохи истории мы встречаемся вновь с различными, описанными мною, родами королевской власти; каждый из них по очереди пытается возвратить себе утраченное господство. Так, например, духовенство постоянно проповедывало религиозную королевскую власть; юристы старались воскресить императорскую монархию; дворянство иногда обнаруживало желание восстановить избирательную или поддержать феодальную королевскую власть. И не только духовенство, юристы, дворянство старались дать перевес той или другой королевской власти, но и она сама пользовалась всеми ими для расширения своего могущества. Короли называли себя то посланными от Бога, то наследниками императоров, то первыми дворянами страны, смотря по надобности или по духу времени; они незаконно присваивали себе эти различные качества, ни одно из которых не составляет настоящего могущества новейшей королевской власти, не служит источником преобладающего ее влияния. Она явилась пред народами, повторяю, как охранительница и покровительница общественного порядка, общей справедливости и общей пользы, как высшая общественная функция, как центр и связь общества; в силу этого она была принята народами, в силу этого она соединила в себе все народные силы. В дальнейшем изложении мы увидим, каким образом это свойство новейшей королевской власти, возникшее, повторяю, в XII веке, при Людовике Толстом, будет расти, укрепляться и наконец, в политическом отношении, сделается отличительною чертою ее. Этим именно королевская власть и содействовала великому результату, характеризующему ныне европейские общества, – соединению всех общественных элементов в две силы: правительство и народ.
Итак, с началом крестовых походов Европа вступила на тот путь, который должен был привести к настоящему ее состоянию; вы видели, какую роль королевская власть играла в этом великом преобразовании. В следующей лекции мы рассмотрим различные попытки политической организации, совершившиеся между XII и XVI веками, с целью устроить и поддержать это преобразование, несмотря на усилия феодализма, церкви и городских общин, старавшихся устроить общество на основании его прежних первообразных начал, и тем отстоять или, вернее, вернуть свои утраченные привилегии.
Лекция десятая
Прежде всего нам необходимо с точностью определить предмет настоящей лекции. Вспомним, что один из первых фактов, указанных мною, – это разнообразие, разъединение, независимость элементов первобытного европейского общества. Феодальное дворянство, духовенство, городские общины имели совершенно различное положение, различные законы и нравы; каждое из этих учреждений было как бы отдельным обществом, управлялось собственными средствами и властью, по своим особым законам. Они находились между собою в сношениях, в соприкосновении, но не в истинном единстве; они не составляли, строго говоря, ни государства, ни нации.
Слияние всех этих обществ в одно совершилось; оно, как мы уже видели, является отличительным признаком новейшего общества. Прежние общественные элементы сведены к двум: правительству и народу; различие исчезло, сходство привело к единству. Но прежде, нежели совершился этот результат, было много попыток предупредить его, дать всем отдельным элементам общую жизнь и деятельность, не уничтожая ни различия, ни независимости их. Хотели соединить их в одно государство, образовать из них одно национальное тело, связать их одним и тем же правительством, не касаясь ни положения, ни привилегий их, ни особенных свойств их. Ни одна из этих попыток не имела успеха. Доказательством тому служит именно упомянутый мною результат – единство новейшего общества. Правда, в некоторых странах Европы еще сохранились остатки прежнего разнообразия общественных элементов; так, например, в Германии есть еще настоящее феодальное дворянство, настоящая буржуазия; в Англии национальная церковь имеет еще общественные доходы и особый порядок судопроизводства; но отдельная жизнь всех этих учреждений только кажущаяся; в политическом отношении они все слились в одно общество, вошли в состав государства, управляются общественными властями, подчиняются одной и той же системе, увлекаются потоком одних и тех же идей и нравов. Повторяю, даже там, где еще существует форма прежних общественных элементов, разделение и независимость их не имеют уже более никакого реального значения.
Несмотря на то, попытки привести в порядок общественные элементы, не изменяя ни самой сущности их, ни разнообразия, играли важную роль в истории Европы; к ним относится значительная часть событий рассматриваемой нами эпохи, которою первобытная Европа отличается от новейшей, эпохи, в которой совершилось преобразование европейского общества. Они не только играли в ней важную роль, но имели сильное влияние и на последующие события, на способ приведения всех общественных элементов к двум – правительству и народу. Вот почему весьма важно изучить и понять попытки политической организации, имевшие место в промежуток времени между XII и XVI веками с целью создать народы и правительства, не уничтожая различия второстепенных обществ, боровшихся между собою. Такова задача настоящей лекции – задача очень трудная.
Не все попытки политической организации были задуманы и совершены с добрым намерением: многие из них сделаны были исключительно в видах эгоизма и тирании. Некоторые, однако, были вполне бескорыстны и действительно имели предметом нравственное и общественное благо людей. Состояние разъединения, насилия, неправды, в котором находилось тогдашнее общество, было невыносимо для великих умов, для возвышенных сердец и заставляло их беспрестанно искать средств к выходу из него. Но даже самые лучшие из этих благородных попыток не имели успеха, столько мужества, жертв, усилий, доблестей не привели к желанной цели: не печальное ли это зрелище? Но в действительности оно еще печальнее. Эти попытки общественного усовершенствования не только остались без успеха, но к ним присоединилась огромная масса заблуждений и зла. Вопреки благому намерению, они по большей части были бессмысленны и свидетельствуют о совершенном отсутствии разума и справедливости, о глубоком непонимании прав человеческого рода и условий общественного быта; виновники попыток заслуживали своей неудачи. Итак, мы видим здесь не только бедственную судьбу человеческого рода, но и нравственную немощь его. Мы видим, до какой степени самая малая доля истины может поразить величайшие умы, до какой степени она заставляет их совершенно забыть все окружающее, делает их слепыми для всего того, что не входит в тесный круг их излюбленной идеи; мы видим также, как одна хорошая сторона предприятия может затмить все несправедливости, заключающиеся в нем и допускаемые им. Это доказательство порочности и несовершенства человека наводит на нас еще большую грусть, чем все бедствия его земной жизни; заблуждения его ужаснее его страданий. Попытки, о которых я буду говорить, богаты и заблуждениями, и страданиями; решимся взглянуть на это зрелище, сохраняя полное беспристрастие к этим людям, к этим векам, которые так часто заблуждались, потерпели такие страшные неудачи, но тем не менее обнаружили столь великие доблести, выказали столь благородные усилия и заслужили столь громкую славу.
Попытки политической организации, совершившиеся между XII и XVI веками, были двух родов: одни имели предметом доставить преобладание одному из общественных элементов – духовенству, феодальному дворянству или городским общинам, – подчинить ему все другие и этою ценою купить единство. Другие старались согласить все отдельные элементы и дать им общую деятельность, гарантируя каждому из них свободу и обеспечивая за ним известную долю влияния.
Попытки первого рода больше возбуждают подозрение в эгоизме и тирании. Действительно, они чаще носили в себе эти недостатки; они по самой природе своей должны были прибегать к исключительно тираническим способам действия; однако многие из них могли быть и на самом деле были предприняты бескорыстно, в видах блага и прогресса человеческого рода. Раньше всех других представляется попытка теократической организации, т. е. стремление подчинить все различные общества началам и власти церкви.
Припомним, что было сказано об истории церкви. Я старался объяснить, какие начала развивались в ее недрах, в какой степени законно было каждое из них, каким образом они возникли из естественного хода событий, какие оказали услуги, какое причинили зло. Мы познакомились с характерными чертами разных состояний, через которые прошла церковь между VIII и XII столетиями; мы рассмотрели церковь императорскую, варварскую, феодальную, наконец, теократическую. Предполагая, что все это свежо в памяти, мы попытаемся теперь указать, что сделало духовенство для приобретения господства над Европой, и почему оно не имело в том успеха.
Попытка теократической организации является очень раннею и обнаруживается как в действиях римского престола, так и вообще в действиях духовенства; она естественно проистекала из политического и нравственного превосходства церкви; но с первых же шагов, она встретила препятствия, которых не могла преодолеть даже во времена развития своей наибольшей силы.
Первое препятствие заключалось в самой сущности христианской веры. Резко отличаясь в этом отношении от большинства религиозных верований, христианство установилось путем убеждения чисто нравственного; оно не было при самом возникновении своем вооружено силою; в первые века своего существования оно покоряло исключительно словом и обращалось только к душе человека. Вот почему церковь, даже после торжества своего, при всех своих богатствах, при всем значении, не была облечена непосредственною правительственною властью. В деятельности ее отражалось ее чисто нравственное происхождение. Обширно было ее влияние, но не власть. Она проникла в муниципальные учреждения; могущественно действовала на императоров, на всех императорских агентов; но положительное заведывание общественными делами, т. е. правительство в собственном смысле слова не находилось в руках церкви. Но косвенным путем, путем простого влияния не может установиться ни одна правительственная система, ни теократическая, ни какая-либо другая; правительство должно судить, распоряжаться, повелевать, собирать подати, располагать доходами, одним словом, управлять, фактически господствовать над обществом. Действуя убеждением на народы и правительства, можно сделать многое, можно приобрести сильное влияние, но нельзя управлять, нельзя основать систему, нельзя овладеть будущим. Таково было положение христианской церкви в силу самого ее происхождения. Она всегда стояла рядом со светским правительством, но никогда не могла устранить или заменить его. Вот серьезное препятствие, которого не могла преодолеть попытка теократической организации.
С раннего времени она встречается также с другим препятствием. После падения Римской империи, после основания варварских государств христианская церковь находилась в ряду побежденных. Прежде всего она должна была выйти из этого положения, она должна была начать обращением победителей в христианскую веру и таким образом возвыситься на один уровень с ними. Достигнув этой цели и помышляя о преобладании, церковь столкнулась с надменностью феодального дворянства. Светский феодализм оказал при этом Европе огромную услугу; в XI веке народы были почти совершенно покорены церковью; государи едва могли защищаться против нее: одно феодальное дворянство никогда не подчинялось игу духовенства, никогда не унижалось пред ним. Изучая общий характер Средних веков, нельзя не заметить странную смесь надменности и повиновения, слепого верованья и свободы духа, господствовавшую в отношениях светских феодальных владык к духовенству. Припомним замечания наши о происхождении феодализма, о первоначальных составных частях его, о способе образования элементарного феодального общества вокруг феодального владельца. Я выяснил, до какой степени священник в этом обществе стоял ниже владельца. Среди феодального дворянства навсегда сохранилось воспоминание такого положения; оно постоянно считало себя не только независимым от церкви, но и высшим, нежели она; оно признавало лишь за собою право обладать, управлять страною; оно желало жить в добром согласии с духовенством, но с тем, чтобы назначать ему его долю влияния, а не принимать от него свою собственную. В течение многих веков независимость общества от церкви была поддерживаемая светскою аристократиею; она гордо защищалась в то время, когда смирились и короли, и народы. Она раньше всех других общественных сил воспротивилась попытке теократической организации и всего более, быть может, содействовала неудаче этой попытки.
Третье обстоятельство, противодействовавшее попытке теократической организации, не обращало на себя, вообще говоря, должного внимания, а последствия его нередко даже подвергались неправильной оценке. Везде, где только духовенство овладевало обществом и подчиняло его теократической организации, власть всегда доставалась духовенству, допускавшему в своих недрах брачную жизнь, т. е. сословию священнослужителей, пополнявшемуся из своей собственной среды, воспитывавшему детей своих для того же положения, в котором родились они. Пересмотрите историю, обратитесь к Азии, к Египту: все великие теократии были произведением духовенства, составлявшего само по себе полное общество, почерпавшего в самом себе все элементы своей силы и ничего не заимствовавшего извне. Христианское духовенство, как безбрачное, находилось в совершенно другом положении; чтобы продолжать свое существование, оно должно было постоянно прибегать к светскому обществу, обращаться для своего пополнения ко всем сословиям. Тщетно сословный дух напрягал свои силы, чтобы подчинить себе эти чуждые ему элементы; в новых пришельцах всегда оставались некоторые следы их происхождения; и горожане, и дворяне всегда сохраняли известные черты своего прежнего духа, своего первобытного состояния. Безбрачие священников, без сомнения, содействовало отчуждению католического духовенства от прочих сословий; оно ставило его в совершенно особенное положение, чуждое интересам и общественной жизни других людей; но вместе с тем оно принуждало его беспрерывно вступать в сношения с светским обществом, обновлять, пополнять себя с его помощью, принимать, переносить часть совершившихся там нравственных переворотов. Я не колеблясь утверждаю, что это постоянно возрождающаяся необходимость причинила попытке теократической организации гораздо более вреда, нежели мог принести ей пользы сословный дух, поддерживаемый безбрачием духовенства.
Наконец, в самых недрах духовенства встретились могущественные противники этой попытки. Часто говорят о единстве церкви; действительно, она постоянно стремилась к нему и в некоторых отношениях благополучно достигла его. Не будем, однако, увлекаться ни блеском слов, ни блеском отдельных фактов. В каком обществе более внутренних раздоров, более партий, нежели в духовенстве? Какая нация разделялась, волновалась, изменяла свое направление чаще, нежели теократическая нация? Национальные церкви большей части европейских государств почти беспрерывно борются с римским престолом, соборы с папами; ереси бесчисленны и беспрестанно возрождаются; постоянно есть повод к расколу; нигде не видно такого различия в мнениях, такого упорства в борьбе, такого раздробления власти. Внутренняя жизнь церкви, смуты, перевороты, обуревавшие ее, были, может быть, важнейшим препятствием успеху той теократической организации, которой она стремилась подчинить общество.
Все эти препятствия становятся заметными уже в V веке, при самом зарождении великой попытки, рассматриваемой нами. Однако они не помешали продолжению ее, не помешали даже успеху ее в течение нескольких веков. Наиболее знаменательным ее моментом, решительным ее кризисом было правление Григория VII в конце XII века. Мы уже видели, что преобладающею идеею этого великого человека было подчинение всего мира духовенству, духовенства – папской власти, Европы – обширной благоустроенной теократии. В стремлении своем к этой цели, Григорий VII, по моему мнению и насколько можно судить о столь отдаленных событиях, сделал две ошибки: одну – как теоретик, другую – как революционер. Первая состояла в том, что он громогласно объявил о своем плане, систематически изложил свои убеждения о свойствах и правах духовной власти и заранее, с железною логикою, извлек из них самые отдаленные заключения. Таким образом, не обеспечив еще за собою средств к победе, он грозил нападением всем светским государям Европы. В делах человеческих успех не достигается таким самовластным образом действий. Кроме того, Григорий VII впал в ошибку, свойственную всем революционерам: он пытался сделать более, нежели мог исполнить, он не хотел принять возможное за меру и предел своих усилий. Чтобы ускорить торжество своих идей, он вступил в борьбу с империею, со всеми государями, даже с духовенством. Он не отказался ни от одного вывода из своей теории, не пощадил ничьих интересов; он громогласно объявил, что хочет властвовать и над царствами, и над умами, и таким образом восстановил против себя, с одной стороны, все светские власти, устрашенные неминуемою опасностью, с другой – свободных мыслителей, которые начинали появляться и уже чуждались тирании, тяготевшей над мыслью. Вообще, Григорий VII больше повредил, нежели помог осуществлению им задуманного предприятия.
Однако предприятие это продолжалось еще, и без успеха, в течение всего XII и до половины XIII века. Это время величайшего могущества церкви. Не думаю, чтобы она в это время сделала значительный шаг вперед. До конца правления Иннокентия III, она более пользовалась своею славою и могуществом, нежели расширяла их. В минуту наибольшего, по-видимому, успеха своего, в большей части Европы обнаруживается против нее народная реакция. На юге Франции появляется ересь альбигойцев, распространившаяся на целое общество, обширное и сильное. Около того же времени на севере, во Фландрии, также зарождаются подобные идеи и желания. Несколько позже в Англии могущество церкви с большею энергиею подрывается Виклефом, основателем секты, которой не суждено было погибнуть. На этот путь вслед за народами вскоре вступают и государи. В начале XIII века могущественнейшие и искуснейшие европейские государи – императоры Гогенштауфенского дома – погибают в борьбе с папскою властью; но еще ранее конца того же столетия Людовик Святой, благочестивейший из королей, объявляет независимость светской власти и обнародывает первую прагматическую санкцию, послужившую основанием всех прочих. В начале XIV века завязывается спор между Филиппом Красивым и Бонифацием VIII; столь же непокорным Риму является и король Английский Эдуард I.
Попытка теократической организации очевидно не удалась; с тех пор церковь принимает оборонительное положение; она уже не надеется покорить Европу и заботится единственно об удержании прежних приобретений своих. Эмансипация светского европейского общества относится к концу XIII века; с этого времени церковь перестает стремиться к преобладанию над ним. Она еще раньше отказалась от этого стремления к той сфере, где, по-видимому, должна была иметь наибольший успех. В самом центре церкви, вокруг ее престола, в Италии, теократия давно уже потерпела окончательную неудачу и уступила место совершенно другой системе – той демократической организации, тип которой мы видим в итальянских республиках, и которая играла в Европе столь блестящую роль между XI и XVI веками.
Вы помните сказанное мною об истории городских общин и о способе образования их. В Италии они развились раньше и были могущественнее, нежели в других странах; города Италии были гораздо многочисленнее и богаче, чем города Галлии, Англии, Испании; римское муниципальное устройство сохранило в ней более жизни и правильности. Итальянские поля не представляли удобного места жительства для новых завоевателей. Они повсюду были обработаны, высушены, возделаны; они не были покрыты лесами; варвары не могли предаваться там охоте в обширных размерах, не могли вести той жизни, какую вели в Германии. Притом часть итальянской территории вовсе не принадлежала им. Южная Италия, Рим и окрестности его, Равенна – по-прежнему зависели от греческих императоров. Благодаря отдалению государя и превратностям войны, в этой части Италии весьма рано утвердилось и развилось республиканское устройство. И не только Италия не вся принадлежала варварам, но самые варвары, завоевавшие ее, не остались спокойными и окончательными ее владельцами. Остготы были разбиты и уничтожены Велизарием и Нарциссом. Не лучше утвердилось и Лангобардское королевство: оно было разрушено франками, и хотя Пипин и Карл Великий и пощадили лангобардское народонаселение, но они поняли, что для борьбы с недавно побежденными лангобардами необходимо соединиться с коренными жителями Италии. Итак, в противоположность прочим странам Европы, варвары не были исключительными, мирными владельцами итальянской территории, итальянского общества. Вот отчего по ту сторону Альп феодальные владельцы были слабы, малочисленны, без всякой связи между собою. Перевес по-прежнему остался за городами, не переходя к обитателям сел, как это случилось, например, в Галлии. Когда такое положение дел обнаружилось с полною ясностью, то большая часть феодальных владельцев добровольно или в силу необходимости оставили сельскую жизнь и переселились в города. Варвары-дворяне сделались горожанами. Понятно, какую силу, какое превосходство, благодаря одному этому факту, приобрели итальянские города над другими городскими общинами Европы. В последних, как мы уже имели случай заметить, население отличалось своею униженностью и робостью. Жителей их мы сравнили с вольноотпущенниками, с трудом сопротивляющимися постоянно угрожающему им господину. Судьба итальянских горожан была другая; здесь в одних и тех же стенах смешались и победители, и побежденные: города не имели надобности защищаться от соседних владельцев; городские жители, по крайней мере большая часть их, была искони свободными гражданами, отстаивавшими свою независимость против чужеземных, отдаленных государей – то против франкских королей, то против германских императоров. Отсюда это огромное и раннее превосходство итальянских городов; в то время как в других странах с величайшим трудом образовались жалкие общины, здесь развились и утвердились республики, государства. Вот чем объясняется успех попытки республиканской организации в этой части Европы. Республика здесь издавна обуздала феодальный элемент и сделалась господствовавшей формой общества. Но по самому свойству своему, она не могла не утвердиться, не распространиться в нем: она заключала в себе весьма мало зародышей усовершенствования, составляющих необходимое условие развития и прочности.
Всматриваясь в историю итальянских республик от X до XV века, нельзя не обратить внимание на два факта, по-видимому, противоречащие друг другу, но тем не менее бесспорные. Мы видим удивительное развитие отваги, деятельности, гения – развитие, влекущее за собою значительную степень благосостояния; мы замечаем движение и свободу, которых недостает остальной Европе. Но спросим себя, какова была действительная судьба жителей, как проходила их жизнь, сколько счастья выпадало на их долю? Тогда представляется нам совершенно другое зрелище. Нет, быть может, истории более печальной, более мрачной; нет, быть может, страны, в которой жизнь людей подвергалась таким бурям, таким печальным случайностям, в которой было бы больше раздоров, преступлений, несчастий. В то же время нас поражает и другой факт: в политическом устройстве большей части этих республик свобода постепенно уменьшается. Недостаток безопасности так чувствителен, что партии неизбежно должны искать убежища в менее бурной, менее демократической системе, нежели та, при которой возникло государство. Возьмите историю Флоренции, Венеции, Генуи, Милана, Пизы, – везде вы увидите, что общий ход событий не только не развивал свободу, не расширял сферу политических учреждений, но, напротив того, клонился к стеснению их, к сосредоточению власти в руках меньшинства. Одним словом, этим столь энергичным, блестящим, богатым республикам не доставало двух необходимых благ: безопасности – первого условия общественного быта – и усовершенствования политических учреждений.
Отсюда развилось новое зло, воспрепятствовавшее распространению попытки республиканской организации. Величайшая опасность угрожала Италии извне, со стороны государей. Но и эта опасность никогда не могла примирить итальянские республики, не могла побудить их к общей, совокупной деятельности: они никогда не умели общими силами сопротивляться общему врагу. Вот почему многие из просвещеннейших итальянцев, лучших патриотов нашего времени, оплакивают средневековое республиканское устройство Италии как настоящую причину, по которой она не сделалась нациею: она раздробилась, по их мнению, на множество небольших народов, недостаточно возвышавшихся над своими страстями и потому не сумевших образовать союз и соединиться в одно государственное тело. Они сожалеют, что отечество их не прошло, подобно остальной Европе, чрез деспотическую централизацию, которая бы образовала из него народ и сделала бы его независимым от иноземцев.
Итак, республиканская организация, даже при самых благоприятных обстоятельствах, не содержала в себе время начал прогресса, прочности, расширения; у нее не было будущности. Организацию Италии в Средние века до известной степени можно сравнить с организацией Древней Греции. Греция также состояла из небольших республик, всегда соперничавших между собою, часто враждебных друг другу, иногда соединявшихся для достижения одной общей цели. В таком сравнении все преимущество на стороне Греции. Нет сомнения, что в Афинах, в Спарте, в Фивах, несмотря на множество обнаруживаемых историею несправедливостей, было гораздо более порядка, безопасности, правосудия, нежели в итальянских республиках. Несмотря на это, как непродолжительно было политическое существование Греции, каким источником слабости служило для нее разделение территории и власти! Лишь только Греция вступила в соприкосновение с соседними большими государствами, с Македонией и с Римом, – она потеряла свою самостоятельность. Эти небольшие, столь славные и недавно еще цветущие республики не могли соединиться для противодействия общему врагу. То же самое тем более должно было случиться в Италии, где общество и человеческий разум были гораздо менее развиты, менее сильны, нежели у греков.
Если республиканская организация не могла надолго утвердиться в Италии, где она сначала имела успех и одержала верх над феодальным устройством, то тем скорее она должна пасть в других странах Европы. Бросим беглый взгляд на судьбу ее в этих странах.
Южная Франция и соседние с нею провинции Испании – Каталония, Наварра, Бискайя – во многом были сходны с Италией. И там общины получили большое развитие, приобрели значение и богатство. С горожанами соединились многие небольшие феодальные владельцы; на сторону их перешла также часть духовенства; одним словом, положение этих провинций довольно близко подходило к положению Италии. В течение XI и в начале XII века города Прованса, Лангедока, Аквитании стремились приобрести политическое значение, сделаться независимыми республиками, подобно городам, лежавшим по ту сторону Альп. Но Южная Франция находилась в соприкосновении с весьма сильным феодализмом, феодализмом Северной Франции. Появилась альбигойская ересь. Между Франциею феодальной и Франциею муниципальною возгорелась война. Вам известна история крестового похода против альбигойцев, предпринятого под предводительством Симона Монфортского. Это была борьба северного феодализма с южною демократическою организациею. Несмотря на усилия южного патриотизма, торжество осталось на стороне севера. Югу недоставало политического единства; цивилизация его еще не достигла той степени, при которой внешнее единство может быть заменено единодушием. Попытка республиканской организации была побеждена, и крестовый поход восстановил в Южной Франции феодальное устройство.
Несколько позже республиканская попытка увенчалась большим успехом в горах Швейцарии. Театр ее здесь был очень узок; ей предстояла борьба только с чужеземным государем, хотя более сильным, нежели швейцарцы, но не принадлежавшим к числу могущественнейших европейских монархов. Борьба эта была ведена с большою отвагою. Большинство швейцарского феодального дворянства соединилось с городами; эта поддержка во многом содействовала революции, но вместе с тем исказила ее значение, сообщив ей такой аристократический и неподвижный характер, каким она, по-видимому, не должна была бы отличаться.
Перехожу к Северной Франции, к городским общинам Фландрии, берегов Рейна и Ганзейского союза. Здесь в городах вполне восторжествовала демократическая организация; но с самого начала видно, что ей не было суждено распространяться, не было суждено овладеть всем обществом. Северные общины были окружены и стеснены феодализмом, так что постоянно должны были находиться в оборонительном положении. Ясно, что они не могли и думать о завоеваниях; они заботились только о своей собственной защите, по мере сил своих. Они удерживают свои привилегии, но остаются заключенными в своих стенах. Внутренностью городов и ограничивается здесь демократическая организация; она не идет далее, и мы напрасно стали бы искать ее где-либо еще.
Вот какова была судьба республиканской попытки: она торжествует в Италии, но с немногими задатками развития и прочности; она побеждена в Южной Франции; она побеждает на небольшой арене – в швейцарских горах, на севере же, в общинах Фландрии, берегов Рейна и Ганзейского союза, она лишена возможности выйти за пределы городских стен. Но и в таком положении, при очевидном неравенстве сил ее с силами других общественных элементов, она возбуждала в феодальном дворянстве чрезвычайные опасения. Феодальные владельцы завидовали богатству городских общин и страшились их могущества; демократический дух проникал в деревни и села, восстания крестьян становились все чаще и упорнее. Почти во всей Европе, в недрах феодального дворянства образовался обширный союз против городских общин. Силы обеих сторон были далеко не равномерны; городские общины стояли отдельно друг от друга; между ними не было ни связи, ни сношений; деятельность их была чисто местная. Конечно, между горожанами различных стран существовала известная симпатия; успех или неудачи фландрских городов в борьбе их с бургундскими герцогами без сомнения возбуждали живое участие в французских городах; но между городами не установлялось ни действительной связи, ни единства; общины не оказывали никакой помощи друг другу. Поэтому феодальная система имела пред ними неизмеримое преимущество; но, будучи сама разрознена и непоследовательна, она не могла уничтожить значение общин. Когда, после продолжительной борьбы, феодальные владыки убедились в невозможности полной, совершенной победы, то они поневоле решились признать эти небольшие муниципальные республики, вступить с ними в переговоры и принять их в число государственных элементов. Тогда начался новый порядок, новая попытка политической организации: попытка смешанной организации, имевшая предметом согласить между собою все общественные элементы – феодальное дворянство, городские общины, духовенство, государей – дать им общую жизнь и деятельность. Нам остается теперь рассмотреть эту последнюю попытку.
Всем, конечно, известно, что такое генеральные штаты во Франции, кортесы в Испании и Португалии, парламент в Англии, сейм в Германии. Вы знаете также, из каких элементов состояли эти различные собрания; они представляли сближение феодального дворянства, духовенства и городских общин, имевших целью соединиться в одно общество, в одно государство, под одним законом и одною властью. Везде под различными именами мы видим одно и то же стремление, одну и ту же цель. Как образец этой попытки я приведу факт, наиболее занимательный для нас и наиболее нам известный – генеральные штаты во Франции.
Никто в настоящее время не мог бы сказать, что было определенного, постоянного в генеральных штатах Франции, сколько числилось в них членов, что было предметом рассуждений их, когда они созывались, как долго продолжались их заседания. Все это решительно неизвестно; история не дает по этому предмету никаких ясных и твердых указаний. Собрания эти с первого взгляда представляются простою случайностью, крайнею мерою как для народов, так и для королей; для королей – когда у них нет денег и они не знают как выйти из затруднительного положения; для народов – когда они не знают как избавиться от тяготеющего над ними зла. Дворянство, духовенство заседают в генеральных штатах, но являются туда с некоторою беспечностью; они хорошо понимают, что не здесь главное поприще деятельности их, что не этим способом они достигнут преобладающего значения в правительстве. Да и сами горожане оказывают не более сочувствия к генеральным штатам; они видят в них не драгоценное право, но крайнюю необходимость. Обратим внимание на характер политической деятельности этих собраний. Они то совершенно ничтожны, то ужасны. Если сила на стороне короля, то унижение, покорность их доходят до крайности; если же положение верховной власти затруднительно, если она необходимо нуждается в содействии штатов, тогда они становятся мятежными, делаются орудием какой-нибудь аристократической интриги или нескольких честолюбцев. Одним словом, иногда это не более как совещательное собрание нотаблей, т. е. почетных лиц государства, иногда – настоящий конвент. Вот почему дела их почти всегда исчезают вместе с ними; они многое обещают, многое начинают, но ничего не исполняют. Из генеральных штатов не вышло ни одной важной меры, которая имела бы решительное влияние на французское общество, ни одной значительной реформы в правительстве, в законодательстве, в администрации. Не следует, однако, думать, что они не приносили никакой пользы, не оставляли никаких последствий; они имели нравственное действие, на которое, говоря вообще, обращают слишком мало внимания; они были периодическим протестом против политического рабства, насильственным провозглашением некоторых охранительных принципов, например права страны подавать голос относительно платимых ею налогов, принимать участие в своих делах, подвергать ответственности агентов правительства. Если эти принципы никогда не погибали во Франции, то этому значительно содействовали генеральные штаты, а поддерживать в нравах народа и оживлять в его мыслях воспоминание о свободе и о сопряженных с нею правах, значит оказывать народу немаловажную услугу. Генеральные штаты имели это достоинство; но они никогда не были правительственною системою, никогда не входили в состав политической организации, никогда, одним словом, не достигали той цели, с которою были созываемы, – они не достигали слияния в одно целое различных обществ, разделявших между собою господство в стране.
Испанские и португальские кортесы представляют тот же конечный результат среди множества самых разнообразных обстоятельств. Важность кортесов зависела от обстоятельств времени и места. В Аррагонии, Бискайе, среди споров о наследстве престола или во время борьбы с маврами, они собирались чаще и пользовались большею силою. Иногда дворянство и духовенство вовсе не были призываемы в кортесы, например, в Кастилии в 1370 и 1373 годах. При более подробном изучении событий, мы должны были бы обратить внимание на множество частностей; но ограничиваясь, по необходимости, общими чертами, мы можем сказать положительно, что испанские кортесы, подобно генеральным штатам во Франции, были простою случайностью, а не системою, не политическою организациею, не благоустроенною формою правления.
Не то совершилось в Англии. Я не войду в подробное рассмотрение этого предмета. Я скажу только несколько слов о причинах, по которым Англия получила совершенно другое направление, нежели континентальная Европа. Прежде всего должно заметить, что в Англии не было могущественных вассалов, не было подданных, которые были бы в состоянии лично бороться с королевскою властью. Бароны и главнейшие феодальные владыки Англии издавна принуждены были соединяться для общей защиты и сопротивления. Таким образом в высшей аристократии получили преобладание начала ассоциации и истинно политические нравы. Кроме того, английские феодалы, владельцы небольших феодов, под влиянием целого ряда событий, были принуждены к союзу с горожанами и вместе с ними стали заседать в палате общин, которая таким образом получила гораздо большее значение, нежели континентальные общины, – значение вполне достаточное для влияния на правительство страны. Вот состояние британского парламента в XIV веке; палата лордов была высшим советом короля, советом, деятельно участвовавшим в управлении государством. Палата общин, составленная из депутатов от мелких феодальных владельцев и от горожан, не принимала почти никакого непосредственного участия в правительстве; но она установляла права и весьма энергически защищала частные и местные интересы. Парламент, рассматриваемый в целом его составе не имел еще правительственной власти, но был уже благоустроенным учреждением, средством правления, признанным в теории и часто необходимым на практике; итак, попытка сближения и союза между различными общественными элементами, с целью образовать из них одно политическое тело-государство, удалась в Англии, потерпев неудачу на материке Европы.
О Германии скажем лишь несколько слов. Попытки слияния, единства, общей политической организации не возбуждали в ней большого участия. Различные общественные элементы остались в ней гораздо более разрозненными и независимыми друг от друга, нежели в прочих европейских государствах. Доказательства этому можно найт и даже в новейшие времена. Германия была единственною страною Европы, где феодальный порядок избрания долгое время играл роль в образовании монархической власти – я не говорю ни о Польше, ни о других славянских племенах, так поздно вступивших в систему европейской цивилизации. В одной только Германии сохранились также духовные государи, свободные города, облеченные верховною властью в настоящем, политическом значении этого слова. Ясно, что попытки соединить в одно целое первобытные элементы европейского общества имели там меньше значения, нежели в других странах, и остались почти без последствий.
Я указал на важнейшие опыты политической организации, произведенные в Европе до конца XIV и начала XV века. Вы видели, что ни один из них не имел успеха. Я попытался мимоходом объяснить причины такой неудачи, собственно говоря, все эти причины сводятся к одной: общество не было еще достаточно развито для того, чтобы достигнуть единства; все было еще слишком местно, разрозненно, узко, разнообразно как в жизни, так и в убеждениях людей. Не было ни общих интересов, ни общих мнений, которые могли бы одержать верх над частными интересами и мнениями. Самые возвышенные и смелые умы не имели никакого понятия об администрации и суде в настоящем, общественном значении их. Очевидно, что прежде всего деятельная, сильная цивилизация должна была смешать, сравнять, соединить все эти бессвязные элементы; интересы, законы, нравы, идеи должны были подвергнуться действию могущественной централизации; одним словом, должна была образоваться общественная власть, общественное мнение. Мы вступаем в эпоху, когда, наконец, совершилось это великое дело. Первые признаки его, состояние умов и нравов в течение XV века, стремление их к образованию центрального правительства и общественного мнения – таков будет предмет следующей лекции.
Бог, создатель всего мира, организуя человеческое тело, вверху его поставил голову и оттуда провел нервы во все части его. Он поместил в голове и светильник очей, с тем чтобы она могла различать все вредное. Он установил силу разума, возложив на нее управление всеми частями тела и мудрое распоряжение их действиями. Поэтому нужно прежде всего определить то, что касается государей, озаботиться о безопасности их, оградить его жизнь, и потом устроить все то, что относится к народам таким образом, чтобы обеспечивая как следует безопасность королей, обеспечить вместе с тем и безопасность народов»[14 - Forum judicum.].
Но в систему религиозной королевской власти с течением времени всегда входит другой, независимый от нее элемент. Рядом с нею появляется новая сила, более нежели сама королевская власть приближенная к Богу, т. е. к источнику этой власти. Между Богом и королями, между королями и народами становится духовенство, церковная власть; так что королевская власть, образ Божества на земле, подвергается опасности снизойти на степень орудия земных истолкователей божественной воли. Новая причина колебания самого учреждения.
Вот различные роды королевской власти, проявлявшиеся в V веке на развалинах Римской империи: власть варварская, власть императорская и власть религиозная, – последняя еще в самом начале своего развития. Участь их столь же разнородна, как и их начала. Во Франции варварская королевская власть преобладает во все время царствования первой династии. Были, правда, попытки духовенства сообщить ей императорский или религиозный характер; но господствующим принципом ее тем не менее остается избрание из среды королевского семейства, с некоторою примесью наследственности и религиозных идей.
В Италии, у остготов, императорская королевская власть обуздывает варварские обычаи. Теодорих признает себя преемником императоров. Чтобы удостовериться в этом, достаточно прочесть сочинения Кассиодора.
В Испании королевская власть представляется более религиозною, чем где бы то ни было. Верховная власть или, по крайней мере, преобладающее влияние принадлежит толедским соборам; поэтому религиозный характер господствует, если не собственно в управлении вестготских королей, то в законах, в принципах, которые внушает им духовенство.
В Англии, у саксов, почти вполне сохраняются варварские нравы. Королевства гептархии суть не что иное, как владения различных дружин, из которых каждая имеет своего начальника. Военное избрание здесь очевиднее, чем где-либо. У англосаксов мы находим коренной тип варварской королевской власти.
Таким образом, между V и VII веками, в ту эпоху, когда обнаруживаются все три рода королевской власти, каждый из них, смотря по обстоятельствам, получает перевес в одном из различных государств Европы.
Царивший в то время хаос был так велик, что не могло утвердиться никакого общего, постоянного учреждения. Переходя от одной превратности к другой, королевская власть достигла XIII столетия, не выработав никакого определенного характера.
Около половины VIII века, одновременно с торжеством второй династии франкских королей, события обобщаются, уясняются; они совершаются в больших размерах и потому легче могут быть поняты; последствия их становятся более заметными. В короткий промежуток времени все роды королевской власти сменяют друг друга, смешиваются, оставляя очевидные следы своего существования.
Когда Карловинги заступают место Меровингов, то при этом происходит заметное возвращение к принципу варварской королевской власти; опять проявляется избирательное начало, Пипина Короткого избирают в Суассоне. Первые Карловинги, наделяя своих сыновей королевствами, заботятся о том, чтобы важнейшие лица назначаемых государств признали новых королей; производя раздел, они не упускают из виду утверждение его народными собраниями. Словом, избирательное начало, в форме народного согласия, снова получает некоторое значение. Припомним, что воцарение династии Карловингов было до некоторой степени новым нашествием германцев на запад Европы и принесло с собою как бы призрак их древних учреждений, древних нравов.
В то же время религиозное начало яснее прежнего входит в состав королевской власти и начинает играть в ней более важную роль. Пипин признан и посвящен папою; она нуждается в религиозной санкции; папская власть уже могущественная сила, и потому он заискивает в ней. У Карла Великого та же забота, религиозная королевская власть развивается все более и более. Однако не она является господствующею отличительною чертою царствования Карла Великого; он очевидно стремится к восстановлению императорской монархической власти. Хотя он и вступает в союз с духовенством, но не служит орудием его, а скорее употребляет его для своих целей. Идея обширного государства, сильной политической единицы, восстановление Римской империи – вот любимая идея, любимая мечта Карла Великого.
Он умирает; ему наследует Людовик Благочестивый. Всем известно, каким характером облеклась на время королевская власть; король подпадает влиянию духовенства, которое судит его, низлагает, снова восстановляет, управляет им; по-видимому, религиозная королевская власть готовится окончательно снизойти на степень власти подчиненной. Итак, между срединою VIII и срединою IX века, проявляются три различных рода королевской власти.
По смерти Людовика Благочестивого, при том разъединении, в которое впадает Европа, все три рода королевской власти исчезают почти совершенно; все смешивается в одну нестройную массу. Чрез несколько времени, когда феодальное устройство получает преобладание, является четвертый род королевской власти, отличный от всех, до этих пор рассмотренных нами, – это феодальная королевская власть. Она весьма сложна и с трудом поддается определению. Говорили, что король в феодальной системе был сюзереном из сюзеренов, сеньором из сеньоров, что он находился в прочной иерархической связи с целым обществом и что, собирая вокруг себя своих вассалов, потом вассалов своих вассалов и т. д., он собирал весь народ и являлся королем в полном смысле этого слова. Правда, такова теория феодальной королевской власти; но это чистая, отвлеченная теория, никогда не имевшая приложения на практике. Это общее влияние короля чрез посредство иерархической организации, эта связь, соединявшая королевскую власть с целым феодальным обществом, – все это не что иное, как мечты историков. На самом деле большинство феодальных владельцев были в эту эпоху совершенно независимы от королевской власти; многие из них едва знали ее по имени и имели с нею весьма мало сношений, а иногда и вовсе не имели их. Все власти были местные, независимые. Имя короля, носимое одним из феодальных владык, представляло собою скорее воспоминание, нежели факт.
Вот состояние королевской власти в X и XI веках. В XII веке, в царствование Людовика Толстого, положение дел начинает изменяться: чаще слышится имя короля, влияние его проникает в такие места, которые были для него прежде недоступны, роль его в обществе становится более деятельною. Если мы спросим себя, на основании какого права совершалось такое преобразование, то не узнаем ни одного из прав, во имя которых до тех пор действовала королевская власть. Теперь она расширяется и укрепляется уже не как наследствие римских императоров, не во имя императорской монархии и не в силу избирательного права, а также не в силу права Божественного. Всякие признаки избирательного права исчезли: принцип наследственности престола восторжествовал окончательно, и хотя религия и освящает еще воцарение королей, но никто, по-видимому, не обращает больше внимания на религиозный характер королевской власти. Новый элемент, небывалый прежде, появляется в королевской власти; она вступает в новый период своего существования.
Общество, как уже сказано, находилось в то время в состоянии анархическом; оно было жертвою беспрестанных насилий. Оно само не обладало никакими средствами к выходу из этого печального состояния, оно не могло восстановить в своей среде никакой правильности, никакого единства. Феодальные учреждения, парламенты баронов, сеньоральные суды, все формы, под которыми в новейшее время выставляли феодализм как систематическую и правильную организацию, – все это в действительности было лишено силы и не могло служить к водворению порядка и справедливости. Среди общественных бедствий не знали к кому прибегнуть, чтобы прекратить вопиющую несправедливость, загладить великое зло, словом, чтобы устроить государство. Оставалось имя короля; его носил феодальный владелец, – к нему и обратились в этой крайности. Различные права, которыми до того времени обладала королевская власть, не имели большого значения, но память о них сохранялась во многих умах; в некоторых случаях они, впрочем, давали себя чувствовать. К королю начали прибегать, когда нужно было остановить возмутительное насилие, водворить некоторый порядок в местах, соседних с королевскою резиденциею, прекратить какой-либо продолжительный спор. На разрешение короля стали поступать дела, не имевшие прямого отношения к его собственным интересам; он начал действовать как покровитель общественного порядка, как посредник, как гонитель неправды. Властью этою, увеличивавшеюся все более и более, он был обязан нравственному авторитету, с которым не переставало соединяться его имя.
Таков характер, который носит королевская власть со времен Людовика Толстого и аббата Сугерия. В первый раз зарождается в умах, хотя и слабо, неполно, неопределенно, идея общественной власти, отличной от всех местных властей, в руках которых находится общество, – власти предназначенной воздавать справедливость тем, кто не может получить ее обыкновенными средствами, способной установить или, по крайней мере, узаконить порядок; зарождается идея высшей власти, существенное призвание которой – поддерживать и восстановлять спокойствие, покровительствовать слабым, разрешать споры, которым никто не может положить конца. Вот совершенно иной характер, который с XII века в Европе, и особенно во Франции, становится принадлежностью королевской власти. Она уже не может быть признана ни религиозною, ни варварскою, ни императорскою; сила ее ограничена, неполна, случайна; это как бы власть (я не знаю более точного выражения) высшего мирового судьи в государстве.
Таково истинное происхождение новейшей королевской власти, ее жизненный принцип, развившийся в ее деятельности и, скажу не колеблясь, решивший успех ее. В различные эпохи истории мы встречаемся вновь с различными, описанными мною, родами королевской власти; каждый из них по очереди пытается возвратить себе утраченное господство. Так, например, духовенство постоянно проповедывало религиозную королевскую власть; юристы старались воскресить императорскую монархию; дворянство иногда обнаруживало желание восстановить избирательную или поддержать феодальную королевскую власть. И не только духовенство, юристы, дворянство старались дать перевес той или другой королевской власти, но и она сама пользовалась всеми ими для расширения своего могущества. Короли называли себя то посланными от Бога, то наследниками императоров, то первыми дворянами страны, смотря по надобности или по духу времени; они незаконно присваивали себе эти различные качества, ни одно из которых не составляет настоящего могущества новейшей королевской власти, не служит источником преобладающего ее влияния. Она явилась пред народами, повторяю, как охранительница и покровительница общественного порядка, общей справедливости и общей пользы, как высшая общественная функция, как центр и связь общества; в силу этого она была принята народами, в силу этого она соединила в себе все народные силы. В дальнейшем изложении мы увидим, каким образом это свойство новейшей королевской власти, возникшее, повторяю, в XII веке, при Людовике Толстом, будет расти, укрепляться и наконец, в политическом отношении, сделается отличительною чертою ее. Этим именно королевская власть и содействовала великому результату, характеризующему ныне европейские общества, – соединению всех общественных элементов в две силы: правительство и народ.
Итак, с началом крестовых походов Европа вступила на тот путь, который должен был привести к настоящему ее состоянию; вы видели, какую роль королевская власть играла в этом великом преобразовании. В следующей лекции мы рассмотрим различные попытки политической организации, совершившиеся между XII и XVI веками, с целью устроить и поддержать это преобразование, несмотря на усилия феодализма, церкви и городских общин, старавшихся устроить общество на основании его прежних первообразных начал, и тем отстоять или, вернее, вернуть свои утраченные привилегии.
Лекция десятая
Прежде всего нам необходимо с точностью определить предмет настоящей лекции. Вспомним, что один из первых фактов, указанных мною, – это разнообразие, разъединение, независимость элементов первобытного европейского общества. Феодальное дворянство, духовенство, городские общины имели совершенно различное положение, различные законы и нравы; каждое из этих учреждений было как бы отдельным обществом, управлялось собственными средствами и властью, по своим особым законам. Они находились между собою в сношениях, в соприкосновении, но не в истинном единстве; они не составляли, строго говоря, ни государства, ни нации.
Слияние всех этих обществ в одно совершилось; оно, как мы уже видели, является отличительным признаком новейшего общества. Прежние общественные элементы сведены к двум: правительству и народу; различие исчезло, сходство привело к единству. Но прежде, нежели совершился этот результат, было много попыток предупредить его, дать всем отдельным элементам общую жизнь и деятельность, не уничтожая ни различия, ни независимости их. Хотели соединить их в одно государство, образовать из них одно национальное тело, связать их одним и тем же правительством, не касаясь ни положения, ни привилегий их, ни особенных свойств их. Ни одна из этих попыток не имела успеха. Доказательством тому служит именно упомянутый мною результат – единство новейшего общества. Правда, в некоторых странах Европы еще сохранились остатки прежнего разнообразия общественных элементов; так, например, в Германии есть еще настоящее феодальное дворянство, настоящая буржуазия; в Англии национальная церковь имеет еще общественные доходы и особый порядок судопроизводства; но отдельная жизнь всех этих учреждений только кажущаяся; в политическом отношении они все слились в одно общество, вошли в состав государства, управляются общественными властями, подчиняются одной и той же системе, увлекаются потоком одних и тех же идей и нравов. Повторяю, даже там, где еще существует форма прежних общественных элементов, разделение и независимость их не имеют уже более никакого реального значения.
Несмотря на то, попытки привести в порядок общественные элементы, не изменяя ни самой сущности их, ни разнообразия, играли важную роль в истории Европы; к ним относится значительная часть событий рассматриваемой нами эпохи, которою первобытная Европа отличается от новейшей, эпохи, в которой совершилось преобразование европейского общества. Они не только играли в ней важную роль, но имели сильное влияние и на последующие события, на способ приведения всех общественных элементов к двум – правительству и народу. Вот почему весьма важно изучить и понять попытки политической организации, имевшие место в промежуток времени между XII и XVI веками с целью создать народы и правительства, не уничтожая различия второстепенных обществ, боровшихся между собою. Такова задача настоящей лекции – задача очень трудная.
Не все попытки политической организации были задуманы и совершены с добрым намерением: многие из них сделаны были исключительно в видах эгоизма и тирании. Некоторые, однако, были вполне бескорыстны и действительно имели предметом нравственное и общественное благо людей. Состояние разъединения, насилия, неправды, в котором находилось тогдашнее общество, было невыносимо для великих умов, для возвышенных сердец и заставляло их беспрестанно искать средств к выходу из него. Но даже самые лучшие из этих благородных попыток не имели успеха, столько мужества, жертв, усилий, доблестей не привели к желанной цели: не печальное ли это зрелище? Но в действительности оно еще печальнее. Эти попытки общественного усовершенствования не только остались без успеха, но к ним присоединилась огромная масса заблуждений и зла. Вопреки благому намерению, они по большей части были бессмысленны и свидетельствуют о совершенном отсутствии разума и справедливости, о глубоком непонимании прав человеческого рода и условий общественного быта; виновники попыток заслуживали своей неудачи. Итак, мы видим здесь не только бедственную судьбу человеческого рода, но и нравственную немощь его. Мы видим, до какой степени самая малая доля истины может поразить величайшие умы, до какой степени она заставляет их совершенно забыть все окружающее, делает их слепыми для всего того, что не входит в тесный круг их излюбленной идеи; мы видим также, как одна хорошая сторона предприятия может затмить все несправедливости, заключающиеся в нем и допускаемые им. Это доказательство порочности и несовершенства человека наводит на нас еще большую грусть, чем все бедствия его земной жизни; заблуждения его ужаснее его страданий. Попытки, о которых я буду говорить, богаты и заблуждениями, и страданиями; решимся взглянуть на это зрелище, сохраняя полное беспристрастие к этим людям, к этим векам, которые так часто заблуждались, потерпели такие страшные неудачи, но тем не менее обнаружили столь великие доблести, выказали столь благородные усилия и заслужили столь громкую славу.
Попытки политической организации, совершившиеся между XII и XVI веками, были двух родов: одни имели предметом доставить преобладание одному из общественных элементов – духовенству, феодальному дворянству или городским общинам, – подчинить ему все другие и этою ценою купить единство. Другие старались согласить все отдельные элементы и дать им общую деятельность, гарантируя каждому из них свободу и обеспечивая за ним известную долю влияния.
Попытки первого рода больше возбуждают подозрение в эгоизме и тирании. Действительно, они чаще носили в себе эти недостатки; они по самой природе своей должны были прибегать к исключительно тираническим способам действия; однако многие из них могли быть и на самом деле были предприняты бескорыстно, в видах блага и прогресса человеческого рода. Раньше всех других представляется попытка теократической организации, т. е. стремление подчинить все различные общества началам и власти церкви.
Припомним, что было сказано об истории церкви. Я старался объяснить, какие начала развивались в ее недрах, в какой степени законно было каждое из них, каким образом они возникли из естественного хода событий, какие оказали услуги, какое причинили зло. Мы познакомились с характерными чертами разных состояний, через которые прошла церковь между VIII и XII столетиями; мы рассмотрели церковь императорскую, варварскую, феодальную, наконец, теократическую. Предполагая, что все это свежо в памяти, мы попытаемся теперь указать, что сделало духовенство для приобретения господства над Европой, и почему оно не имело в том успеха.
Попытка теократической организации является очень раннею и обнаруживается как в действиях римского престола, так и вообще в действиях духовенства; она естественно проистекала из политического и нравственного превосходства церкви; но с первых же шагов, она встретила препятствия, которых не могла преодолеть даже во времена развития своей наибольшей силы.
Первое препятствие заключалось в самой сущности христианской веры. Резко отличаясь в этом отношении от большинства религиозных верований, христианство установилось путем убеждения чисто нравственного; оно не было при самом возникновении своем вооружено силою; в первые века своего существования оно покоряло исключительно словом и обращалось только к душе человека. Вот почему церковь, даже после торжества своего, при всех своих богатствах, при всем значении, не была облечена непосредственною правительственною властью. В деятельности ее отражалось ее чисто нравственное происхождение. Обширно было ее влияние, но не власть. Она проникла в муниципальные учреждения; могущественно действовала на императоров, на всех императорских агентов; но положительное заведывание общественными делами, т. е. правительство в собственном смысле слова не находилось в руках церкви. Но косвенным путем, путем простого влияния не может установиться ни одна правительственная система, ни теократическая, ни какая-либо другая; правительство должно судить, распоряжаться, повелевать, собирать подати, располагать доходами, одним словом, управлять, фактически господствовать над обществом. Действуя убеждением на народы и правительства, можно сделать многое, можно приобрести сильное влияние, но нельзя управлять, нельзя основать систему, нельзя овладеть будущим. Таково было положение христианской церкви в силу самого ее происхождения. Она всегда стояла рядом со светским правительством, но никогда не могла устранить или заменить его. Вот серьезное препятствие, которого не могла преодолеть попытка теократической организации.
С раннего времени она встречается также с другим препятствием. После падения Римской империи, после основания варварских государств христианская церковь находилась в ряду побежденных. Прежде всего она должна была выйти из этого положения, она должна была начать обращением победителей в христианскую веру и таким образом возвыситься на один уровень с ними. Достигнув этой цели и помышляя о преобладании, церковь столкнулась с надменностью феодального дворянства. Светский феодализм оказал при этом Европе огромную услугу; в XI веке народы были почти совершенно покорены церковью; государи едва могли защищаться против нее: одно феодальное дворянство никогда не подчинялось игу духовенства, никогда не унижалось пред ним. Изучая общий характер Средних веков, нельзя не заметить странную смесь надменности и повиновения, слепого верованья и свободы духа, господствовавшую в отношениях светских феодальных владык к духовенству. Припомним замечания наши о происхождении феодализма, о первоначальных составных частях его, о способе образования элементарного феодального общества вокруг феодального владельца. Я выяснил, до какой степени священник в этом обществе стоял ниже владельца. Среди феодального дворянства навсегда сохранилось воспоминание такого положения; оно постоянно считало себя не только независимым от церкви, но и высшим, нежели она; оно признавало лишь за собою право обладать, управлять страною; оно желало жить в добром согласии с духовенством, но с тем, чтобы назначать ему его долю влияния, а не принимать от него свою собственную. В течение многих веков независимость общества от церкви была поддерживаемая светскою аристократиею; она гордо защищалась в то время, когда смирились и короли, и народы. Она раньше всех других общественных сил воспротивилась попытке теократической организации и всего более, быть может, содействовала неудаче этой попытки.
Третье обстоятельство, противодействовавшее попытке теократической организации, не обращало на себя, вообще говоря, должного внимания, а последствия его нередко даже подвергались неправильной оценке. Везде, где только духовенство овладевало обществом и подчиняло его теократической организации, власть всегда доставалась духовенству, допускавшему в своих недрах брачную жизнь, т. е. сословию священнослужителей, пополнявшемуся из своей собственной среды, воспитывавшему детей своих для того же положения, в котором родились они. Пересмотрите историю, обратитесь к Азии, к Египту: все великие теократии были произведением духовенства, составлявшего само по себе полное общество, почерпавшего в самом себе все элементы своей силы и ничего не заимствовавшего извне. Христианское духовенство, как безбрачное, находилось в совершенно другом положении; чтобы продолжать свое существование, оно должно было постоянно прибегать к светскому обществу, обращаться для своего пополнения ко всем сословиям. Тщетно сословный дух напрягал свои силы, чтобы подчинить себе эти чуждые ему элементы; в новых пришельцах всегда оставались некоторые следы их происхождения; и горожане, и дворяне всегда сохраняли известные черты своего прежнего духа, своего первобытного состояния. Безбрачие священников, без сомнения, содействовало отчуждению католического духовенства от прочих сословий; оно ставило его в совершенно особенное положение, чуждое интересам и общественной жизни других людей; но вместе с тем оно принуждало его беспрерывно вступать в сношения с светским обществом, обновлять, пополнять себя с его помощью, принимать, переносить часть совершившихся там нравственных переворотов. Я не колеблясь утверждаю, что это постоянно возрождающаяся необходимость причинила попытке теократической организации гораздо более вреда, нежели мог принести ей пользы сословный дух, поддерживаемый безбрачием духовенства.
Наконец, в самых недрах духовенства встретились могущественные противники этой попытки. Часто говорят о единстве церкви; действительно, она постоянно стремилась к нему и в некоторых отношениях благополучно достигла его. Не будем, однако, увлекаться ни блеском слов, ни блеском отдельных фактов. В каком обществе более внутренних раздоров, более партий, нежели в духовенстве? Какая нация разделялась, волновалась, изменяла свое направление чаще, нежели теократическая нация? Национальные церкви большей части европейских государств почти беспрерывно борются с римским престолом, соборы с папами; ереси бесчисленны и беспрестанно возрождаются; постоянно есть повод к расколу; нигде не видно такого различия в мнениях, такого упорства в борьбе, такого раздробления власти. Внутренняя жизнь церкви, смуты, перевороты, обуревавшие ее, были, может быть, важнейшим препятствием успеху той теократической организации, которой она стремилась подчинить общество.
Все эти препятствия становятся заметными уже в V веке, при самом зарождении великой попытки, рассматриваемой нами. Однако они не помешали продолжению ее, не помешали даже успеху ее в течение нескольких веков. Наиболее знаменательным ее моментом, решительным ее кризисом было правление Григория VII в конце XII века. Мы уже видели, что преобладающею идеею этого великого человека было подчинение всего мира духовенству, духовенства – папской власти, Европы – обширной благоустроенной теократии. В стремлении своем к этой цели, Григорий VII, по моему мнению и насколько можно судить о столь отдаленных событиях, сделал две ошибки: одну – как теоретик, другую – как революционер. Первая состояла в том, что он громогласно объявил о своем плане, систематически изложил свои убеждения о свойствах и правах духовной власти и заранее, с железною логикою, извлек из них самые отдаленные заключения. Таким образом, не обеспечив еще за собою средств к победе, он грозил нападением всем светским государям Европы. В делах человеческих успех не достигается таким самовластным образом действий. Кроме того, Григорий VII впал в ошибку, свойственную всем революционерам: он пытался сделать более, нежели мог исполнить, он не хотел принять возможное за меру и предел своих усилий. Чтобы ускорить торжество своих идей, он вступил в борьбу с империею, со всеми государями, даже с духовенством. Он не отказался ни от одного вывода из своей теории, не пощадил ничьих интересов; он громогласно объявил, что хочет властвовать и над царствами, и над умами, и таким образом восстановил против себя, с одной стороны, все светские власти, устрашенные неминуемою опасностью, с другой – свободных мыслителей, которые начинали появляться и уже чуждались тирании, тяготевшей над мыслью. Вообще, Григорий VII больше повредил, нежели помог осуществлению им задуманного предприятия.
Однако предприятие это продолжалось еще, и без успеха, в течение всего XII и до половины XIII века. Это время величайшего могущества церкви. Не думаю, чтобы она в это время сделала значительный шаг вперед. До конца правления Иннокентия III, она более пользовалась своею славою и могуществом, нежели расширяла их. В минуту наибольшего, по-видимому, успеха своего, в большей части Европы обнаруживается против нее народная реакция. На юге Франции появляется ересь альбигойцев, распространившаяся на целое общество, обширное и сильное. Около того же времени на севере, во Фландрии, также зарождаются подобные идеи и желания. Несколько позже в Англии могущество церкви с большею энергиею подрывается Виклефом, основателем секты, которой не суждено было погибнуть. На этот путь вслед за народами вскоре вступают и государи. В начале XIII века могущественнейшие и искуснейшие европейские государи – императоры Гогенштауфенского дома – погибают в борьбе с папскою властью; но еще ранее конца того же столетия Людовик Святой, благочестивейший из королей, объявляет независимость светской власти и обнародывает первую прагматическую санкцию, послужившую основанием всех прочих. В начале XIV века завязывается спор между Филиппом Красивым и Бонифацием VIII; столь же непокорным Риму является и король Английский Эдуард I.
Попытка теократической организации очевидно не удалась; с тех пор церковь принимает оборонительное положение; она уже не надеется покорить Европу и заботится единственно об удержании прежних приобретений своих. Эмансипация светского европейского общества относится к концу XIII века; с этого времени церковь перестает стремиться к преобладанию над ним. Она еще раньше отказалась от этого стремления к той сфере, где, по-видимому, должна была иметь наибольший успех. В самом центре церкви, вокруг ее престола, в Италии, теократия давно уже потерпела окончательную неудачу и уступила место совершенно другой системе – той демократической организации, тип которой мы видим в итальянских республиках, и которая играла в Европе столь блестящую роль между XI и XVI веками.
Вы помните сказанное мною об истории городских общин и о способе образования их. В Италии они развились раньше и были могущественнее, нежели в других странах; города Италии были гораздо многочисленнее и богаче, чем города Галлии, Англии, Испании; римское муниципальное устройство сохранило в ней более жизни и правильности. Итальянские поля не представляли удобного места жительства для новых завоевателей. Они повсюду были обработаны, высушены, возделаны; они не были покрыты лесами; варвары не могли предаваться там охоте в обширных размерах, не могли вести той жизни, какую вели в Германии. Притом часть итальянской территории вовсе не принадлежала им. Южная Италия, Рим и окрестности его, Равенна – по-прежнему зависели от греческих императоров. Благодаря отдалению государя и превратностям войны, в этой части Италии весьма рано утвердилось и развилось республиканское устройство. И не только Италия не вся принадлежала варварам, но самые варвары, завоевавшие ее, не остались спокойными и окончательными ее владельцами. Остготы были разбиты и уничтожены Велизарием и Нарциссом. Не лучше утвердилось и Лангобардское королевство: оно было разрушено франками, и хотя Пипин и Карл Великий и пощадили лангобардское народонаселение, но они поняли, что для борьбы с недавно побежденными лангобардами необходимо соединиться с коренными жителями Италии. Итак, в противоположность прочим странам Европы, варвары не были исключительными, мирными владельцами итальянской территории, итальянского общества. Вот отчего по ту сторону Альп феодальные владельцы были слабы, малочисленны, без всякой связи между собою. Перевес по-прежнему остался за городами, не переходя к обитателям сел, как это случилось, например, в Галлии. Когда такое положение дел обнаружилось с полною ясностью, то большая часть феодальных владельцев добровольно или в силу необходимости оставили сельскую жизнь и переселились в города. Варвары-дворяне сделались горожанами. Понятно, какую силу, какое превосходство, благодаря одному этому факту, приобрели итальянские города над другими городскими общинами Европы. В последних, как мы уже имели случай заметить, население отличалось своею униженностью и робостью. Жителей их мы сравнили с вольноотпущенниками, с трудом сопротивляющимися постоянно угрожающему им господину. Судьба итальянских горожан была другая; здесь в одних и тех же стенах смешались и победители, и побежденные: города не имели надобности защищаться от соседних владельцев; городские жители, по крайней мере большая часть их, была искони свободными гражданами, отстаивавшими свою независимость против чужеземных, отдаленных государей – то против франкских королей, то против германских императоров. Отсюда это огромное и раннее превосходство итальянских городов; в то время как в других странах с величайшим трудом образовались жалкие общины, здесь развились и утвердились республики, государства. Вот чем объясняется успех попытки республиканской организации в этой части Европы. Республика здесь издавна обуздала феодальный элемент и сделалась господствовавшей формой общества. Но по самому свойству своему, она не могла не утвердиться, не распространиться в нем: она заключала в себе весьма мало зародышей усовершенствования, составляющих необходимое условие развития и прочности.
Всматриваясь в историю итальянских республик от X до XV века, нельзя не обратить внимание на два факта, по-видимому, противоречащие друг другу, но тем не менее бесспорные. Мы видим удивительное развитие отваги, деятельности, гения – развитие, влекущее за собою значительную степень благосостояния; мы замечаем движение и свободу, которых недостает остальной Европе. Но спросим себя, какова была действительная судьба жителей, как проходила их жизнь, сколько счастья выпадало на их долю? Тогда представляется нам совершенно другое зрелище. Нет, быть может, истории более печальной, более мрачной; нет, быть может, страны, в которой жизнь людей подвергалась таким бурям, таким печальным случайностям, в которой было бы больше раздоров, преступлений, несчастий. В то же время нас поражает и другой факт: в политическом устройстве большей части этих республик свобода постепенно уменьшается. Недостаток безопасности так чувствителен, что партии неизбежно должны искать убежища в менее бурной, менее демократической системе, нежели та, при которой возникло государство. Возьмите историю Флоренции, Венеции, Генуи, Милана, Пизы, – везде вы увидите, что общий ход событий не только не развивал свободу, не расширял сферу политических учреждений, но, напротив того, клонился к стеснению их, к сосредоточению власти в руках меньшинства. Одним словом, этим столь энергичным, блестящим, богатым республикам не доставало двух необходимых благ: безопасности – первого условия общественного быта – и усовершенствования политических учреждений.
Отсюда развилось новое зло, воспрепятствовавшее распространению попытки республиканской организации. Величайшая опасность угрожала Италии извне, со стороны государей. Но и эта опасность никогда не могла примирить итальянские республики, не могла побудить их к общей, совокупной деятельности: они никогда не умели общими силами сопротивляться общему врагу. Вот почему многие из просвещеннейших итальянцев, лучших патриотов нашего времени, оплакивают средневековое республиканское устройство Италии как настоящую причину, по которой она не сделалась нациею: она раздробилась, по их мнению, на множество небольших народов, недостаточно возвышавшихся над своими страстями и потому не сумевших образовать союз и соединиться в одно государственное тело. Они сожалеют, что отечество их не прошло, подобно остальной Европе, чрез деспотическую централизацию, которая бы образовала из него народ и сделала бы его независимым от иноземцев.
Итак, республиканская организация, даже при самых благоприятных обстоятельствах, не содержала в себе время начал прогресса, прочности, расширения; у нее не было будущности. Организацию Италии в Средние века до известной степени можно сравнить с организацией Древней Греции. Греция также состояла из небольших республик, всегда соперничавших между собою, часто враждебных друг другу, иногда соединявшихся для достижения одной общей цели. В таком сравнении все преимущество на стороне Греции. Нет сомнения, что в Афинах, в Спарте, в Фивах, несмотря на множество обнаруживаемых историею несправедливостей, было гораздо более порядка, безопасности, правосудия, нежели в итальянских республиках. Несмотря на это, как непродолжительно было политическое существование Греции, каким источником слабости служило для нее разделение территории и власти! Лишь только Греция вступила в соприкосновение с соседними большими государствами, с Македонией и с Римом, – она потеряла свою самостоятельность. Эти небольшие, столь славные и недавно еще цветущие республики не могли соединиться для противодействия общему врагу. То же самое тем более должно было случиться в Италии, где общество и человеческий разум были гораздо менее развиты, менее сильны, нежели у греков.
Если республиканская организация не могла надолго утвердиться в Италии, где она сначала имела успех и одержала верх над феодальным устройством, то тем скорее она должна пасть в других странах Европы. Бросим беглый взгляд на судьбу ее в этих странах.
Южная Франция и соседние с нею провинции Испании – Каталония, Наварра, Бискайя – во многом были сходны с Италией. И там общины получили большое развитие, приобрели значение и богатство. С горожанами соединились многие небольшие феодальные владельцы; на сторону их перешла также часть духовенства; одним словом, положение этих провинций довольно близко подходило к положению Италии. В течение XI и в начале XII века города Прованса, Лангедока, Аквитании стремились приобрести политическое значение, сделаться независимыми республиками, подобно городам, лежавшим по ту сторону Альп. Но Южная Франция находилась в соприкосновении с весьма сильным феодализмом, феодализмом Северной Франции. Появилась альбигойская ересь. Между Франциею феодальной и Франциею муниципальною возгорелась война. Вам известна история крестового похода против альбигойцев, предпринятого под предводительством Симона Монфортского. Это была борьба северного феодализма с южною демократическою организациею. Несмотря на усилия южного патриотизма, торжество осталось на стороне севера. Югу недоставало политического единства; цивилизация его еще не достигла той степени, при которой внешнее единство может быть заменено единодушием. Попытка республиканской организации была побеждена, и крестовый поход восстановил в Южной Франции феодальное устройство.
Несколько позже республиканская попытка увенчалась большим успехом в горах Швейцарии. Театр ее здесь был очень узок; ей предстояла борьба только с чужеземным государем, хотя более сильным, нежели швейцарцы, но не принадлежавшим к числу могущественнейших европейских монархов. Борьба эта была ведена с большою отвагою. Большинство швейцарского феодального дворянства соединилось с городами; эта поддержка во многом содействовала революции, но вместе с тем исказила ее значение, сообщив ей такой аристократический и неподвижный характер, каким она, по-видимому, не должна была бы отличаться.
Перехожу к Северной Франции, к городским общинам Фландрии, берегов Рейна и Ганзейского союза. Здесь в городах вполне восторжествовала демократическая организация; но с самого начала видно, что ей не было суждено распространяться, не было суждено овладеть всем обществом. Северные общины были окружены и стеснены феодализмом, так что постоянно должны были находиться в оборонительном положении. Ясно, что они не могли и думать о завоеваниях; они заботились только о своей собственной защите, по мере сил своих. Они удерживают свои привилегии, но остаются заключенными в своих стенах. Внутренностью городов и ограничивается здесь демократическая организация; она не идет далее, и мы напрасно стали бы искать ее где-либо еще.
Вот какова была судьба республиканской попытки: она торжествует в Италии, но с немногими задатками развития и прочности; она побеждена в Южной Франции; она побеждает на небольшой арене – в швейцарских горах, на севере же, в общинах Фландрии, берегов Рейна и Ганзейского союза, она лишена возможности выйти за пределы городских стен. Но и в таком положении, при очевидном неравенстве сил ее с силами других общественных элементов, она возбуждала в феодальном дворянстве чрезвычайные опасения. Феодальные владельцы завидовали богатству городских общин и страшились их могущества; демократический дух проникал в деревни и села, восстания крестьян становились все чаще и упорнее. Почти во всей Европе, в недрах феодального дворянства образовался обширный союз против городских общин. Силы обеих сторон были далеко не равномерны; городские общины стояли отдельно друг от друга; между ними не было ни связи, ни сношений; деятельность их была чисто местная. Конечно, между горожанами различных стран существовала известная симпатия; успех или неудачи фландрских городов в борьбе их с бургундскими герцогами без сомнения возбуждали живое участие в французских городах; но между городами не установлялось ни действительной связи, ни единства; общины не оказывали никакой помощи друг другу. Поэтому феодальная система имела пред ними неизмеримое преимущество; но, будучи сама разрознена и непоследовательна, она не могла уничтожить значение общин. Когда, после продолжительной борьбы, феодальные владыки убедились в невозможности полной, совершенной победы, то они поневоле решились признать эти небольшие муниципальные республики, вступить с ними в переговоры и принять их в число государственных элементов. Тогда начался новый порядок, новая попытка политической организации: попытка смешанной организации, имевшая предметом согласить между собою все общественные элементы – феодальное дворянство, городские общины, духовенство, государей – дать им общую жизнь и деятельность. Нам остается теперь рассмотреть эту последнюю попытку.
Всем, конечно, известно, что такое генеральные штаты во Франции, кортесы в Испании и Португалии, парламент в Англии, сейм в Германии. Вы знаете также, из каких элементов состояли эти различные собрания; они представляли сближение феодального дворянства, духовенства и городских общин, имевших целью соединиться в одно общество, в одно государство, под одним законом и одною властью. Везде под различными именами мы видим одно и то же стремление, одну и ту же цель. Как образец этой попытки я приведу факт, наиболее занимательный для нас и наиболее нам известный – генеральные штаты во Франции.
Никто в настоящее время не мог бы сказать, что было определенного, постоянного в генеральных штатах Франции, сколько числилось в них членов, что было предметом рассуждений их, когда они созывались, как долго продолжались их заседания. Все это решительно неизвестно; история не дает по этому предмету никаких ясных и твердых указаний. Собрания эти с первого взгляда представляются простою случайностью, крайнею мерою как для народов, так и для королей; для королей – когда у них нет денег и они не знают как выйти из затруднительного положения; для народов – когда они не знают как избавиться от тяготеющего над ними зла. Дворянство, духовенство заседают в генеральных штатах, но являются туда с некоторою беспечностью; они хорошо понимают, что не здесь главное поприще деятельности их, что не этим способом они достигнут преобладающего значения в правительстве. Да и сами горожане оказывают не более сочувствия к генеральным штатам; они видят в них не драгоценное право, но крайнюю необходимость. Обратим внимание на характер политической деятельности этих собраний. Они то совершенно ничтожны, то ужасны. Если сила на стороне короля, то унижение, покорность их доходят до крайности; если же положение верховной власти затруднительно, если она необходимо нуждается в содействии штатов, тогда они становятся мятежными, делаются орудием какой-нибудь аристократической интриги или нескольких честолюбцев. Одним словом, иногда это не более как совещательное собрание нотаблей, т. е. почетных лиц государства, иногда – настоящий конвент. Вот почему дела их почти всегда исчезают вместе с ними; они многое обещают, многое начинают, но ничего не исполняют. Из генеральных штатов не вышло ни одной важной меры, которая имела бы решительное влияние на французское общество, ни одной значительной реформы в правительстве, в законодательстве, в администрации. Не следует, однако, думать, что они не приносили никакой пользы, не оставляли никаких последствий; они имели нравственное действие, на которое, говоря вообще, обращают слишком мало внимания; они были периодическим протестом против политического рабства, насильственным провозглашением некоторых охранительных принципов, например права страны подавать голос относительно платимых ею налогов, принимать участие в своих делах, подвергать ответственности агентов правительства. Если эти принципы никогда не погибали во Франции, то этому значительно содействовали генеральные штаты, а поддерживать в нравах народа и оживлять в его мыслях воспоминание о свободе и о сопряженных с нею правах, значит оказывать народу немаловажную услугу. Генеральные штаты имели это достоинство; но они никогда не были правительственною системою, никогда не входили в состав политической организации, никогда, одним словом, не достигали той цели, с которою были созываемы, – они не достигали слияния в одно целое различных обществ, разделявших между собою господство в стране.
Испанские и португальские кортесы представляют тот же конечный результат среди множества самых разнообразных обстоятельств. Важность кортесов зависела от обстоятельств времени и места. В Аррагонии, Бискайе, среди споров о наследстве престола или во время борьбы с маврами, они собирались чаще и пользовались большею силою. Иногда дворянство и духовенство вовсе не были призываемы в кортесы, например, в Кастилии в 1370 и 1373 годах. При более подробном изучении событий, мы должны были бы обратить внимание на множество частностей; но ограничиваясь, по необходимости, общими чертами, мы можем сказать положительно, что испанские кортесы, подобно генеральным штатам во Франции, были простою случайностью, а не системою, не политическою организациею, не благоустроенною формою правления.
Не то совершилось в Англии. Я не войду в подробное рассмотрение этого предмета. Я скажу только несколько слов о причинах, по которым Англия получила совершенно другое направление, нежели континентальная Европа. Прежде всего должно заметить, что в Англии не было могущественных вассалов, не было подданных, которые были бы в состоянии лично бороться с королевскою властью. Бароны и главнейшие феодальные владыки Англии издавна принуждены были соединяться для общей защиты и сопротивления. Таким образом в высшей аристократии получили преобладание начала ассоциации и истинно политические нравы. Кроме того, английские феодалы, владельцы небольших феодов, под влиянием целого ряда событий, были принуждены к союзу с горожанами и вместе с ними стали заседать в палате общин, которая таким образом получила гораздо большее значение, нежели континентальные общины, – значение вполне достаточное для влияния на правительство страны. Вот состояние британского парламента в XIV веке; палата лордов была высшим советом короля, советом, деятельно участвовавшим в управлении государством. Палата общин, составленная из депутатов от мелких феодальных владельцев и от горожан, не принимала почти никакого непосредственного участия в правительстве; но она установляла права и весьма энергически защищала частные и местные интересы. Парламент, рассматриваемый в целом его составе не имел еще правительственной власти, но был уже благоустроенным учреждением, средством правления, признанным в теории и часто необходимым на практике; итак, попытка сближения и союза между различными общественными элементами, с целью образовать из них одно политическое тело-государство, удалась в Англии, потерпев неудачу на материке Европы.
О Германии скажем лишь несколько слов. Попытки слияния, единства, общей политической организации не возбуждали в ней большого участия. Различные общественные элементы остались в ней гораздо более разрозненными и независимыми друг от друга, нежели в прочих европейских государствах. Доказательства этому можно найт и даже в новейшие времена. Германия была единственною страною Европы, где феодальный порядок избрания долгое время играл роль в образовании монархической власти – я не говорю ни о Польше, ни о других славянских племенах, так поздно вступивших в систему европейской цивилизации. В одной только Германии сохранились также духовные государи, свободные города, облеченные верховною властью в настоящем, политическом значении этого слова. Ясно, что попытки соединить в одно целое первобытные элементы европейского общества имели там меньше значения, нежели в других странах, и остались почти без последствий.
Я указал на важнейшие опыты политической организации, произведенные в Европе до конца XIV и начала XV века. Вы видели, что ни один из них не имел успеха. Я попытался мимоходом объяснить причины такой неудачи, собственно говоря, все эти причины сводятся к одной: общество не было еще достаточно развито для того, чтобы достигнуть единства; все было еще слишком местно, разрозненно, узко, разнообразно как в жизни, так и в убеждениях людей. Не было ни общих интересов, ни общих мнений, которые могли бы одержать верх над частными интересами и мнениями. Самые возвышенные и смелые умы не имели никакого понятия об администрации и суде в настоящем, общественном значении их. Очевидно, что прежде всего деятельная, сильная цивилизация должна была смешать, сравнять, соединить все эти бессвязные элементы; интересы, законы, нравы, идеи должны были подвергнуться действию могущественной централизации; одним словом, должна была образоваться общественная власть, общественное мнение. Мы вступаем в эпоху, когда, наконец, совершилось это великое дело. Первые признаки его, состояние умов и нравов в течение XV века, стремление их к образованию центрального правительства и общественного мнения – таков будет предмет следующей лекции.