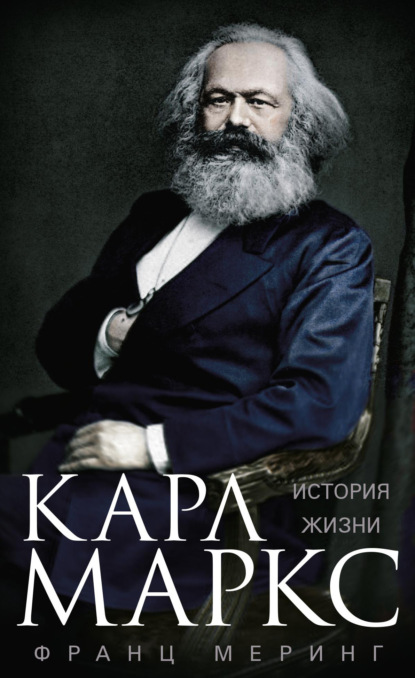По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Карл Маркс. История жизни
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Во всяком случае, юный студент не сам выбрал Берлин для продолжения университетских занятий. Карл Маркс любил тот солнечный край, где родился, а прусская столица была ему противна всю жизнь. И менее всего могла привлечь его туда философия Гегеля, которая еще более неограниченно господствовала в Берлинском университете после смерти своего основателя, чем при его жизни; Гегель был ему совершенно чужд. К этому присоединялась еще разлука с любимой девушкой и дальность расстояния. Правда, он обещал, что удовольствуется ее согласием выйти за него впоследствии замуж, а пока воздержится от всяких внешних проявлений своих чувств. Но клятвы вообще писаны на воде, а клятвы влюбленных в особенности: Маркс рассказывал впоследствии своим детям, что в любви к их матери он был в те годы подлинно неистовым Роландом и его юный пыл не знал покоя, пока он не добился разрешения переписываться с невестой.
Однако первое письмо от нее он получил только через год после приезда в Берлин, и об этом годе мы имеем, в некоторых отношениях, более точные и подробные сведения, чем о каком бы то ни было из более ранних или более поздних годов жизни Маркса. Сведения эти сообщил о себе сам Маркс в пространном письме, которое написал родителям 10 ноября 1837 г., чтобы «в конце прожитого здесь года дать им представление о том, как этот год был проведен». В этом замечательном документе юноша обнаруживает уже все свойства своей зрелой поры, когда он боролся за истину до полного истощения душевных и телесных сил: свою ненасытную жажду знания, свою неиссякаемую энергию, беспощадную самокритику и тот воинственный дух, который лишь заглушал голос сердца, когда казалось, что чувство заблуждается.
22 октября 1836 г. Карл Маркс был внесен в списки студентов. Но лекции его, по-видимому, мало интересовали: в течение девяти семестров он записался не более чем на двенадцать курсов, главным образом обязательных, по юридическим наукам, да из них, надо полагать, слушал немногие. Из официальных преподавателей, пожалуй, только один Эдуард Ганс имел некоторое влияние на умственное развитие Карла Маркса. У Ганса он прослушал уголовное и прусское государственное право, и сам Ганс засвидетельствовал «исключительное прилежание», с которым Маркс посещал его лекции. Убедительнее подобных аттестаций, в которых возможно дружеское преувеличение, та беспощадная полемика, которую Маркс вел в своих первых сочинениях с представителями исторической школы права; против ее узости и тупости, так же как и вредного влияния на развитие права и законодательства, красноречиво ополчался и философски образованный юрист Ганс.
Однако, по собственным словам Маркса, юриспруденция как специальность стояла для него на втором плане в университете; главными предметами он считал историю и философию, но лекций не посещал и записался лишь на обязательные практические занятия по логике у Габлера, официального преемника Гегеля, – самого посредственного из всех его посредственных учеников. Но Маркс уже и в университете работал самостоятельно; в два семестра он овладел запасом знаний, каких не усвоить было и в течение двадцати семестров, если бы воспринимать их маленькими порциями, на лекциях, по системе академической кормежки.
По приезде в Берлин Маркса прежде всего захватил «новый мир любви». «Опьяненный любовью и бедный надеждами», он излил свои чувства в трех тетрадях стихов, которые все были посвящены «моей дорогой, вечно любимой Женни фон Вестфален». К ней в руки эти стихи попали уже в декабре 1836 г., и она читала их, «обливаясь слезами блаженства и печали», как писала в Берлин сестра Маркса София. Сам автор отзывался год спустя в большом письме к родителям очень непочтительно об этом детище своей музы: «Чувство выражено бесформенно и расплывчато; никакой естественности, все вымышленно, полное несоответствие того, что сказано, тому, что должно было быть выражено; риторические размышления вместо поэтических мыслей». Весь этот список прегрешений развертывает сам юный поэт. Правда, он оговаривается, что, «пожалуй, в стихах есть некоторая теплота чувства и подъем»; но если эти похвальные качества и служат смягчающим обстоятельством, то лишь в том смысле и в той мере, как относительно «Песен к Лауре» Шиллера.
В общем, эти юношеские стихотворения дышат тривиальной романтикой, сквозь которую редко пробивается искренний тон. При этом техника стиха более тяжелая и неуклюжая, чем, в сущности, дозволительно было после Гейне и Платена. Такими сбивчивыми путями развивалась вначале художественность, которою Маркс обладал в высокой мере и которую проявил и в своих научных сочинениях. Силой и образностью своего языка Маркс мог поспорить с лучшими мастерами германской литературы; он придавал также большое значение эстетическому чувству меры в своих произведениях – не в пример скудным умам, которые считают скучное изложение основным ручательством учености. Но среди многочисленных даров, положенных музами в колыбель Маркса, все же не было дара размеренной речи.
Впрочем, он сам, в своем большом письме к родителям от 10 ноября 1837 г., отводил поэзии лишь роль аккомпанемента в своей жизни; он считал своей обязанностью изучать юриспруденцию и прежде всего чувствовал потребность испробовать свои силы в философии. Он изучил Гейнекциуса, Тибо и первоисточники, перевел на немецкий язык две первые книги «Пандект» Юстиниана и пытался обосновать философию права в области права. Этот «злосчастный opus» он даже будто бы довел до трехсот листов, хотя, быть может, это только описка. В конце концов Маркс убедился в «ложности всего этого» и бросился в объятия философии, с целью создать новую метафизику, а в заключение снова убедился в ложном направлении своих занятий. При этом он имел привычку делать выписки из всех книг, которые прочитывал, – из «Лаокосона» Лессинга, «Эрвина» Зольгера, «Истории искусств» Винкельмана, «Истории немецкого народа» Лудена – и на полях набрасывал свои размышления по поводу прочитанного. Одновременно с этим он переводил «Германию» Тацита, элегии Овидия и без учителя, по грамматике, изучал итальянский и английский языки – без особенного успеха, читал «Уголовное право» Клейна и его «Анналы», а также, на досуге, и новейшую литературу. Конец семестра снова посвящен был «пляскам муз и музыке сатиров», причем внезапно перед ним засверкало, как далекий заколдованный замок, царство истинной поэзии, и его собственное творчество рассыпалось в прах.
В итоге этот первый семестр дал «много ночей, проведенных без сна, много споров, много внешних и внутренних стимулов», но мало приобретений. Маркс пренебрегал за это время природой, искусством, светом, оттолкнул от себя друзей. К тому же его юный организм переутомился, и по совету врача Маркс переехал в Штралау, в то время еще тихую рыбачью деревушку. Там он скоро поправился, и снова началась напряженная умственная работа и борьба. Во втором семестре он тоже поглощал массу самых разнообразных знаний, по все определеннее выступала в его занятиях философия Гегеля, как точка опоры среди смены явлений. Когда Маркс впервые знакомился с нею по отрывкам, ему не нравилась эта «фантастическая песня утесов»; но во время новой болезни он проштудировал ее сначала до конца и вдобавок записался членом в клуб молодых гегельянцев. Там, среди идейных споров, он все теснее примыкал к «теперешней мировой философии», причем, правда, в нем самом замолкло все богатство звуков, и его охватило «подлинное неистовство иронии после стольких отрицаний».
Все это Карл раскрыл своим родителям и закончил письмо просьбой о разрешении вернуться домой сейчас же, а не на Пасху следующего года, как ему раньше дозволил отец. Ему хотелось потолковать с отцом о «разбросанности» своего ума; только «милая близость» родителей помогла бы ему умиротворить «взволнованные призраки».
Письмо это теперь драгоценно для нас, ибо в нем, как в зеркале, отразился Маркс, каким он был в молодые годы; но на родителей оно произвело неблагоприятное впечатление. Отец, уже прихварывавший в то время, вновь увидел перед собою «демона», которого издавна боялся в сыне; он стал вдвойне бояться этого призрака с тех пор, как полюбил «некую особу», как свое дитя, с тех пор, как весьма почтенное семейство одобрило союз, по-видимому суливший любимому существу жизнь, полную опасностей, и весьма туманное будущее. Он никогда не был так упрям, чтобы предписывать сыну жизненный путь, лишь бы Карл избрал такой, который даст ему возможность выполнить «священный долг»; но то, что отец видел перед собой, было «взбаламученное море, без надежного дна, куда можно было бросить якорь».
И потому, несмотря на «слабость», которую он сознавал в себе больше, чем кто-либо, Гейнрих Маркс решил «раз в жизни выказать суровость», и его ответ от 1 декабря, «суровый» в свойственной ему манере, написан в чрезвычайно преувеличенных выражениях вперемежку с горестными вздохами. Отец спрашивал Карла, выполнил ли он возложенную на него задачу и как выполнил, причем тут же отвечал сам: «Из рук вон плохо!!! Беспорядочное метание из одной области знания в другую, тупое высиживание мыслей при тусклом свете ночника; одичание ученого, нечесаного и в халате, взамен одичания за кружкой пива; отталкивающее нелюдимство и забвение всякого приличия, даже уважения к отцу. Искусство светского общения с людьми ограничено стенами грязной комнаты, где, быть может, среди классического беспорядка, любовные письма Женни и доброжелательные, быть может, слезами писанные увещания отца служат для раскуривания трубки, хотя и это лучше, чем если бы они, по небрежности, попали в руки третьих лиц». Тут печаль обессиливала отца, и, чтобы оставаться беспощадным, он вынужден был подкрепляться пилюлями, прописанными ему доктором. Далее Карлу делается строгий выговор за неумение распоряжаться деньгами: «Можно подумать, что мы Крёзы: за один год сынок изволил истратить чуть не 700 талеров, тогда как богачи не тратят и 500». Конечно, Карл не мот и не кутила, но разве может человек, который чуть не каждую неделю изобретает новые системы и разрушает старые, заниматься такими пустяками? Его, наверно, надувают на каждом шагу, и всякий, кому только не лень, запускает руку в его карман.
Дальше идут еще рассуждения в таком же духе, и письмо заканчивается неумолимым отказом в разрешении приехать домой.
«Ехать сюда в данный момент нелепо. Я знаю, что ты все равно неаккуратно посещаешь лекции, хотя, вероятно, платишь за них; но я хочу, по крайней мере, соблюсти внешнее приличие. Я не раб общественного мнения, но не люблю злословия на мой счет». «На пасхальные каникулы – милости просим, или даже дней на десять раньше, так как отец твой не педант».
Во всех этих жалобах звучал укор сыну в бессердечности, и так как Маркса не раз в этом укоряли, а здесь упрек брошен был в первый раз и, пожалуй, с наибольшим основанием, то лучше сразу сказать по этому поводу то немногое, что есть сказать. Модный лозунг «право изживать себя» изобретен нашею изнеженной культурой, чтобы прикрыть трусливый эгоизм; он, конечно, не является удовлетворительным ответом, так же как более старинного происхождения слова «о правах гения», который может позволить себе больше, чем обыкновенные смертные. У Карла Маркса неутомимая борьба за высшее познание вытекала не из черствости ума, а из глубочайших переживаний сердца; он был отнюдь «не бык», как он раз грубо выразился, чтобы «повернуться спиной к страдающему человечеству», или, как высказал ту же мысль Гутген: «Бог для того обременил его душой, чтобы каждая боль болела у него сильнее, чтобы каждое горе он принимал ближе к сердцу, чем другие люди». Никто не сделал так много, как Карл Маркс, чтобы вырвать с корнем «муки человечества». Его плавание по житейскому морю было сплошь бурным; корабль его трепали непогоды, враги непрерывно осыпали его градом пуль, и хотя флаг его всегда гордо развевался на мачте, но жизнь на борту его корабля не была легкой и уютной ни для команды, ни для капитана.
И потому нельзя сказать, что Маркс был равнодушен к горю своих близких. Боевой дух заглушал иногда на время голос сердца, но не мог подавить его окончательно; часто, уже в зрелом возрасте, Маркс горько жаловался, что под гнетом его сурового жизненного удела те, которые ему всех ближе, страдают больше, чем он сам. И молодой студент не остался глухим к жалобам отца: он отказался не только от немедленной поездки в Трир, но не приехал и на пасхальные каникулы, что огорчило его мать, но весьма порадовало отца, гнев и досада которого скоро улеглись. Правда, жалобы слышатся и в последующих письмах, но преувеличений уже нет; отец сам признал, что в искусстве отвлеченных рассуждений ему не по силам состязаться с Карлом; для того же, чтобы изучать терминологию, прежде чем проникнуть в святилище, он слишком стар. Только в одном пункте отец не считался ни с какой трансцендентностью – и сын в этом вопросе благоразумно хранил гордое молчание – в вопросе о презренном металле; ценность его для семейного человека Карл, по словам отца, все еще, по-видимому, не понимал. Но, утомясь бесплодною борьбой, отец заявил, что «готов сложить оружие»; и смысл этих слов был более серьезный, чем можно было предположить по легкому юмору, который вновь сквозил в строках его письма.
Письмо помечено 10 февраля 1838 г.; Гейнрих Маркс только что поднялся после болезни, пролежав пять недель в постели. Но улучшение было непродолжительное; недуг – по-видимому, болезнь печени – вернулся снова, и три месяца спустя, 10 мая 1838 г., отец Карла Маркса скончался. Смерть пришла вовремя и избавила родительское сердце от огорчений и разочарований, которые разбивали бы его по частям.
Карл Маркс всегда с нежной признательностью вспоминал об отце. И так же как отец хранил любовь к сыну глубоко в сердце, у сына образ отца был живым в душе до самой могилы.
Младогегельянцы
С весны 1838 г., когда умер его отец, Карл Маркс прожил в Берлине еще три года и вращался среди членов докторского клуба, умственная жизнь которого открыла ему тайны гегелевской философии.
Учение Гегеля тогда еще считалось прусской государственной философией. Министр народного просвещения Альтенштейн и его тайный советник Иоганн Шульце взяли ее под свое высокое покровительство. Гегель возвеличивал государство, как воплощение нравственной идеи, как абсолютно разумное и абсолютную самоцель; этим он присваивал ему высшие права по отношению к отдельным личностям, для которых верховный долг – быть членами государства. Это учение о государстве было чрезвычайно по душе прусской бюрократии; оно бросало смягчающий свет даже и на грехи, связанные с травлей демагогов!
Гегель отнюдь не лицемерил в своей философии: на уровне его политического развития монархия, в которой слуги государства трудятся каждый по мере сил, казалась ему идеальнейшей формой правления; все же он считал необходимым некоторое участие господствующих классов в делах правления, со строгим, однако, сословным ограничением; о всеобщем народном представительстве в современно-конституционном смысле он также не допускал и мысли, как прусский король и оракул его Меттерних.
Но система, которую Гегель состряпал для себя, как для личности, находилась в непримиримом противоречии с диалектическим методом, который он проводил как философ. Вместе с понятием бытия дано и понятие небытия, а из борьбы обоих возникает высшее понятие становления. Все существует и в то же время не существует, ибо все течет, все постоянно меняется, непрерывно возникает и проходит. История для Гегеля – процесс развития, непрерывно преобразующегося, восходящего от низших к высшим ступеням; и этот процесс Гегель с его универсальной образованностью выяснял в самых различных отраслях исторической науки, хотя лишь в той форме, соответствующей его идеалистическому мировоззрению, что во всех исторических событиях проявляется абсолютная идея; ее он считал животворящей душой всего мира, ничем другим ее не определяя.
Таким образом, союз между философией Гегеля и государством Фридрихов Вильгельмов был скорее браком по рассудку; он длился лишь до тех пор, пока обе стороны проявляли рассудительность по отношению одна к другой. Так оно приблизительно и было в дни карлсбадских резолюций и преследования демагогов; но уже июльская революция 1830 г. дала такой сильный толчок вперед развитию Европы, что метод Гегеля оказался несравненно прочнее его политической системы. Как только пока еще слабые отголоски июльской революции в Германии были задушены и над страной поэтов и мыслителей снова навис покой кладбищ, прусское юнкерство поспешило еще раз сыграть против современной философии на старом хламе средневековой романтики. Это было тем легче для него, что восхищение Гегелем шло не столько от него, как от более или менее свободомыслящей бюрократии, и Гегель, при всем возвеличении чиновничьего государства, нисколько не способствовал поддержке религиозных верований в народе; а это альфа и омега феодальной традиции и, в конечном счете, всех эксплуатирующих классов.
На религиозной почве и произошло первое столкновение. Гегель полагал, что рассказы из Священного Писания, собранные в Библии, следует рассматривать как обыкновенные произведения светской литературы и что вера не имеет ничего общего с заурядными повествованиями из действительной жизни. Ученик его, Давид Штраус, молодой шваб, сделал все выводы из слов учителя. Он требовал, чтобы евангельские рассказы были подвергнуты суду исторической критики, и в подкрепление своего требования написал «Жизнь Иисуса»; она вышла в свет в 1835 г. и произвела огромное впечатление. Этою книгой Штраус примыкает к буржуазному «просветительству», о котором Гегель отзывался слишком презрительно. Но дар диалектического мышления помог Штраусу поставить вопрос несравненно глубже, чем ставил его старик Реймарус, лессинговский «Неназванный». Штраус не усматривал в христианстве простого обмана и в апостолах шайки шарлатанов, а объяснял мифическую часть Евангелия бессознательным творчеством первых христианских общин. Но все же многое в Евангелии он еще признавал историческим повествованием о жизни Иисуса и самого Иисуса – историческою личностью; во всех крупнейших событиях его жизни он усматривал зерно исторической правды.
В политическом смысле Штраус был совершенно безобиден и оставался вне политики до конца жизни. Несколько резче звучала политическая нота в органе младогегельянцев – «Галльские ежегодники», основанном Арнольдом Руге и Теодором Эхтермейером в 1838 г. Журнал этот, правда, тоже посвящен был литературе и философии и являлся вначале только противовесом берлинским «Ежегодникам научной критики», заржавленному органу старогегельянцев. Но Арнольд Руге, перед которым скоро отступил на второй план рано умерший Эхтермейер, принимал участие уже в студенческом движении и в годину безумной травли демагогов поплатился шестилетним тюремным заключением в Кепенике и Кольберге. Он, впрочем, не отнесся трагично к своей судьбе; получив приват-доцентуру в Галле, он выгодно женился и создал себе обеспеченное существование, после чего, несмотря на все пережитое, находил прусский государственный строй справедливым и свободным. Руге, в сущности, ничего не имел против того, чтобы на нем оправдалась злая шутка старопрусских мандаринов, уверявших, будто в Пруссии никто так быстро не делает карьеры, как обращенный демагог. Этого, однако, не случилось.
Руге не был самостоятельным мыслителем и тем более революционером; но он был честолюбив, образован, трудолюбив и обладал боевым задором как раз в той мере, какая требуется для того, чтобы хорошо вести научный периодический орган. Он сам однажды назвал себя не без меткости оптовым торговцем в области духа. «Галльские ежегодники» сделались под его редакторством сборным пунктом для всех беспокойных умов, которые обладали вполне допустимым для государственного порядка умением вносить наиболее жизни в газетную лавочку. Давид Штраус привлекал читателей несравненно больше, чем все богословы, с пеной у рта отстаивавшие божественную непогрешимость Евангелия. Правда, сам Руге уверял, что его журнал остается «гегельянски-христианским и гегельянски-прусским», но министр народного просвещения Альтенштейн, и без того прижатый к стене романтической реакцией, не верил в его миролюбие и не внял неотступной просьбе Руге о зачислении его на государственную службу в знак признания его заслуг. Тогда «Галльские ежегодники» прониклись сознанием, что необходимо разбить оковы, которые держали в плену прусскую свободу и правосудие.
К числу сотрудников «Галльских ежегодников» принадлежали и берлинские младогегельянцы, среди которых Карл Маркс провел три года своей молодости. Докторский клуб состоял из доцентов, учителей, писателей – всех людей в расцвете лет и сил. Рутенберг, которого Карл Маркс в одном из писем к своему отцу называл «самым близким» своим другом в Берлине, преподавал географию в берлинском кадетском корпусе; его уволили будто бы за то, что он однажды утром подобран был пьяным в канаве, а на самом деле потому, что его заподозрили в писании «неблагонамеренных» статей в лейпцигских или гамбургских газетах. Эдуард Мейен сотрудничал в недолго просуществовавшей газете, где Маркс поместил два своих стихотворения – к счастью, единственных, увидевших свет. Не выяснено в точности, входил ли в состав этого кружка, уже в те годы, когда Маркс был студентом Берлинского университета, также и Макс Штирнер, преподававший в женской школе. Прямых доказательств личного знакомства Маркса с Штирнером не имеется, но вопрос этот и не представляет большого интереса; какой-либо духовной близости между ними никогда не было. Действительно же большое влияние оказали на Маркса наиболее выдающиеся члены докторского клуба: Бруно Бауэр, приват-доцент Берлинского университета, и Карл Фридрих Кеппен, преподаватель реального училища в Доротеенштадте.
Карлу Марксу едва исполнилось двадцать лет, когда он примкнул к докторскому клубу; но, как часто и в позднейшие годы его жизни, вступая в новый круг людей, он сразу сделался умственным центром его. Бауэр и Кеппен были оба старше его лет на десять, но они скоро признали умственное превосходство Маркса и не желали себе лучшего боевого товарища, чем этот юноша, который еще многому мог научиться у них и действительно научился. «Своему другу, Карлу Гейнриху Марксу из Трира» посвятил Кеппен неистовый памфлет, выпущенный им в 1840 г., по поводу самой годовщины рождения короля Фридриха Прусского.
Кеппен был на редкость талантливый историк, о чем и ныне свидетельствуют его статьи в «Галльских ежегодниках»: ему мы обязаны первой истинно исторической оценкой эпохи красного террора в Великой французской революции. Он очень верно и удачно критиковал современных ему историков Лео, Ранке, Раумера, Шлоссера и сам пробовал силы в различных отраслях исторического исследования, от литературного введения в северную мифологию, достойного занять место рядом с исследованиями Якова Гримма и Людвига Уланда, до большой книги о Будде; ее хвалил и Шопенгауэр, вообще не жаловавший старого гегельянца. Если такой умный человек, как Кеппен, жаждал, чтобы «возродился дух» злейшего деспота прусской истории и «огненным мечом истребил всех противников, препятствующих нам войти в страну обетованную», то это показывает, в каком странном мире перевернутых понятий жили берлинские младогегельянцы.
При этом, разумеется, не следует забывать о двух обстоятельствах. Романтическая реакция и все, что примыкало к ней, всячески старались очернить память старого Фрица. Это был, как выражался Кеппен, «ужасающий кошачий концерт: старо- и новозаветные трубы, назидательные варганы и нравоучительные волынки, исторические фаготы и прочая дрянь, в том числе гимны свободе, распеваемые древнетевтонским пивным басом». А затем тогда еще не существовало критически-научного исследования, которое хотя бы попыталось дать справедливую оценку жизни и деятельности прусского короля; такового и не могло быть, так как главнейшие источники, по которым возможно было бы воссоздать его историю, еще не были открыты для пользования. Фридриха считали «просвещенным» государем, и поэтому одни ненавидели его, а другие восхищались им.
Действительной целью, которую преследовал Кеппен в своем памфлете, был возврат к просветительной поре восемнадцатого столетия. Руге говорил о Бауэре, Кеппене и Марксе, что отличительный их признак – связь с буржуазным просвещением; они представляли собой философскую партию Горы и чертили грозное «Мене, текел, фарес» на германском грозовом небе. Кеппен опровергал «пустые выкрики» против философии XVIII в., доказывая, что хотя немецкие деятели просвещения и скучны, но мы все же многим обязаны им; беда лишь в том, что они были недостаточно просвещенными. Это Кеппен старался втолковать главным образом тупым почитателям Гегеля, «одиноким кающимся понятиям», «старым браманам логики», которые, поджав под себя ноги, восседали в вечной недвижности, однообразно бормотали себе под нос, перечитывая снова и снова три священные книги Вед, и лишь от времени до времени бросали похотливые взгляды в сторону пляшущих баядерок. Неудивительно, что в органе старогегельянцев Варнхаген назвал памфлет Кеппена «омерзительным»; его особенно задел грубый отзыв Кеппена о «болотных кротах», этих червях без религии, без отечества, без убеждений, без совести, без сердца, ни теплых ни холодных, не умеющих ни скорбеть, ни радоваться, ни любить, ни ненавидеть, не верующих ни в Бога, ни в черта, о жалких людишках, которые бродят перед вратами ада, ибо их не хотят впустить даже в ад, до такой степени они ничтожны.
Кеппен прославлял «великого монарха» только как «великого философа», но при этом попал впросак – в большей степени, чем было допустимо даже при тогдашней малой осведомленности. Он писал: «Фридрих не обладал, подобно Канту, двойным разумом: теоретическим – выступавшим довольно искренно и смело со всеми своими сомнениями, вопросами и отрицаниями, и практическим – играющим роль как бы официально поставленного над ним опекуна, который заглаживает грехи первого и утаивает его студенческие проказы. Только самый незрелый ученик способен утверждать, что теоретически-философский разум Фридриха – крайне трансцендентный в сравнении с королевским-практическим и что старый Фриц нередко забывал об отшельнике из Сан-Суси. В нем, напротив того, король никогда не отставал от философа». В настоящее время всякий, кто рискнул бы повторить это утверждение Кеппена, уличил бы себя этим в ученической незрелости в области прусской исторической науки; но и для 1840 г. было большим промахом поставить просветительную работу целой жизни такого человека, как Кант, ниже просветительных забав деспота Боруссии, которым он предавался при соучастии французских писателей, унижавшихся до роли его придворных шутов.
В этом промахе Кеппена сказались разобщенность, скудость и пустота берлинской жизни, вообще пагубно отражавшейся на тамошних гегельянцах. Это особенно заметно на Кеппене, более способном устоять, чем другие, и сказывается в его боевом памфлете, написанном с большою искренностью. В Берлине буржуазное самосознание не имело еще той могучей опоры, какую в рейнских землях ему оказывала уже сильно развитая промышленность; и когда борьба перешла на практическую почву, прусская столица оказалась на заднем плане по сравнению не только с Кёльном, но с Лейпцигом и Кёнигсбергом. «Они воображают, будто пользуются невесть какой свободой, – писал о тогдашних берлинцах уроженец Восточной Пруссии Валесроде, – потому что вышучивают в кафе, на манер ротозеев, видных сановников, короля, текущие события и т. п.». Берлин был прежде всего военным городом и резиденцией монарха, и его мелкобуржуазное население вознаграждало себя мелочно-злобными сплетнями за свое трусливое раболепство при виде каждой придворной кареты. Очагом такого рода оппозиции был сплетнический салон того Варнхагена, который открещивался даже от просвещения в духе Фридриха, как его понимал Кеппен.
Нет никаких сомнений, что юный Маркс разделял взгляды, высказанные в памфлете, в котором впервые с почетом названо было его имя. С Кеппеном он был очень близок и заимствовал многие писательские приемы у старшего товарища. Они и впоследствии остались добрыми друзьями, хотя пути их скоро разошлись. Когда Маркс двадцать лет спустя посетил Берлин, он нашел Кеппена «все тем же старым Кеппеном», и они весело отпраздновали встречу. Вскоре после того, в 1863 г., Кеппен умер.
Философия самосознания
Подлинным главой берлинских младогегельянцев был, однако, не Кеппен, а Бруно Бауэр. Как самый выдающийся ученик Гегеля, он пользовался соответственным почетом, особенно когда, с высокомерием умозрительного философа, ополчился на штраусовскую «Жизнь Иисуса» и получил от Штрауса резкий отпор. Министр народного просвещения Альтенштейн взял под свою защиту его многообещавший талант.
При всем том Бруно Бауэр не был честолюбцем, и Штраус ошибался, пророча ему, что он кончит «окостенелой схоластикой» ортодоксального вождя Генгстенберга. Напротив того, летом 1839 г. у Бруно Бауэра завязалась литературная полемика с Генгстенбергом, который хотел возвести ветхозаветного Бога мести и гнева в Бога христиан. Спор их, правда, не выходил за пределы академической полемики; ослабевал под старость, и запуганный Альтенштейн предпочел все же убрать своего любимца подальше от подозрительности столь же мстительных, как и правоверных ортодоксов. Осенью 1839 г. он послал Бруно Бауэра в Боннский университет приват-доцентом, с намерением не далее чем через год произвести его в профессора.
Но Бруно Бауэр, как это видно из его писем к Марксу, переживал в то время идейную эволюцию, которая завела его гораздо дальше Штрауса. Он приступил к критике Евангелия и разрушил последние остатки здания, еще сохраненные Штраусом. Бруно Бауэр доказывал, что во всех четырех Евангелиях нет ни единого атома исторической правды и все описанное в них – вольный литературный вымысел евангелистов; он доказывал, что христианство не было навязано в качестве мировой религии древнему греко-римскому миру, а вышло из этого мира, было подлинным его созданием. Этим Бауэр наметил единственный путь, на котором возможно научное исследование источников христианства. Недаром модный и салонный придворный богослов Гарнак, восстанавливая в настоящее время Евангелие в интересах правящих классов, обозвал недавно «жалкими людишками» идущих по пути Бруно Бауэра.
В то время как такие мысли созревали в голове Бруно Бауэра, Карл Маркс был его неразлучным спутником; и сам Бауэр видел в друге, который был моложе его на девять лет, на редкость даровитого боевого товарища. Не успел он обжиться в Бонне, как начал настойчиво звать туда и Маркса. Профессорский клуб в Бонне, писал Бауэр, «чистейшей воды филистерия» в сравнении с берлинским докторским клубом, в котором все же больше духовных интересов. И в Бонне он много смеется, но еще ни разу не смеялся так, как в Берлине, когда просто ходил с Марксом по улицам. Бауэр торопил Маркса сдать скорее свой «несчастный экзамен», для которого нужно только прочесть Аристотеля, Спинозу, Лейбница и больше ничего; не стоит долго возиться с такими пустяками и относиться серьезно к сущей комедии. С боннскими философами, писал он, Маркс справится шутя, а главное – необходимо теперь же, не откладывая, начать издавать вдвоем радикальный журнал. Берлинское пустословие и пресность «Галльских ежегодников» становятся невыносимы; жаль Руге, но почему он не вышвырнет из своего журнала всю эту нечисть?
Тон этих писем иногда довольно революционный, но Бауэр имел всегда в виду только философскую революцию и рассчитывал скорее на содействие, нежели противодействие государственной власти. Еще в декабре 1839 г. он писал Марксу, что Пруссии, по-видимому, суждено идти вперед лишь при помощи Иенских битв, причем таковые не должны непременно происходить на полях сражений; а несколько месяцев спустя, когда умер его покровитель Альтенштейн и почти одновременно с ним старый король, Бауэр стал взывать к высшей идее германской государственности, к семейным традициям Гогенцоллернов, которые в течение уже четырех столетий, не щадя сил, стараются установить надлежащие отношения между церковью и государством. И в то же время Бауэр заявлял, что наука будет неустанно отстаивать идею государства от посягательств церкви: государство иногда заблуждается и относится к науке подозрительно, даже прибегает к насильственным мерам, но ему присуще быть разумным, и заблуждения его длятся недолго. На это изъявление преданности новый король ответил тем, что назначил преемником Альтенштейна правоверного реакционера Эйхгорна, а тот поспешил пожертвовать свободой науки, поскольку она связана с идеей государства, то есть академической свободой, чтобы удовлетворить домогательства церкви.
Политическое легкомыслие было гораздо более присуще Бауэру, чем Кеппену, который ошибался относительно одного Гогенцоллерна, переросшего мерку своей семьи, но никак не относительно «семейных традиций» этой династии. Кеппен не завяз так глубоко в гегелевской идеологии, как Бауэр. Не следует, однако, упускать из виду, что политическая близорукость Бауэра является лишь оборотной стороной его философской дальнозоркости. Он видел в Евангелии духовный осадок той эпохи, в которую оно возникло. С чисто идеологической точки зрения он был не так не прав, полагая, что если христианство с его мутной смесью греческой и римской философии могло преодолеть античную культуру, то тем легче будет ясным и свободным критическим методом новейшей диалектики стряхнуть с себя бремя христианско-германской культуры.
Эту внушительную уверенность в себе давала ему философия самосознания. Под этим именем сплотились некогда греческие философские школы, которые возникли в период национального упадка Греции и наиболее способствовали оплодотворению христианской религии: скептики, эпикурейцы и стоики. По умозрительной глубине они не могли равняться с Платоном, а по универсальности с Аристотелем и Гегель относился к ним свысока. Их общей целью было освободить единичную личность, оторванную катастрофой от всего, что ее раньше связывало и поддерживало, дать ей независимость и от всего внешнего и сосредоточить ее интересы на собственной внутренней жизни, научить ее искать счастья в умственном и душевном спокойствии, незыблемом, даже если целый мир обрушится ей на голову.
Но на развалинах разрушенного мира, говорит Бауэр, измученное «я», видя себя единственной силой, испугалось само себя и выделило свое самосознание, противопоставив его себе, как чуждое всемогущество. Властителю вселенной в Риме, присвоившему себе все права, властелину жизни и смерти, оно дало брата, правда враждебного, в евангелическом Господе, который одним дуновением своим побеждает законы природы и уже на земле провозглашает себя царем и судией мира. Однако человечество воспиталось под игом христианства лишь затем, чтобы еще основательнее уготовить путь свободе и глубже принять ее душой, когда она наконец будет завоевана: вернувшееся к самому себе, само себя понявшее и постигшее свою сущность бесконечное самосознание имеет власть над созданиями своего самоотчуждения.
Отбросив иносказательность тогдашней философской речи, можно понятнее и проще сказать, что именно привлекало Бауэра, Кеппена и Маркса в греческой философии самосознания. В сущности, они примыкали через нее к буржуазному просвещению. Старогреческие школы самосознания имели далеко не таких гениальных представителей, как древнейшие натурфилософы в лице Демокрита и Гераклита или позднее представители философии понятия в Аристотеле и Платоне; но все же они сыграли крупную историческую роль. Они открыли человеческому духу новые горизонты, сломали национальные рамки эллинизма, разбили социальные грани рабства, от которых еще не могли освободиться ни Аристотель, ни Платон; они оплодотворили начатки христианства, религии страдающих и угнетенных, которая лишь тогда перешла к Аристотелю и Платону, когда сделалась эксплуатирующей и угнетающей господствующей церковью. При всем недружелюбном отношении Гегеля к философии самосознания и он признавал большое значение внутренней свободы, личности среди несчастия римского мирового владычества, когда грубой рукой стирали все прекрасное и благородное в духовной индивидуальности. Таким образом, уже буржуазное просвещение XVIII в. пустило в оборот греческую философию самосознания, сомнения скептиков, вражду к религии эпикурейцев и республиканские взгляды стоиков.
Кеппен берет ту же ноту, говоря о своем герое просветительной эпохи, короле Фридрихе: «Эпикурейство, стоицизм и скептицизм – нервы, мускулы и внутренности античного организма; их естественная, непосредственная цельность обусловливала красоту и нравственность древности, и они распались, когда распался этот организм. Все эти три учения Фридрих воспринял и претворил в себе с изумительною силой. Они легли в основу его мировоззрения, его характера и жизни». И тому, что Кеппен говорит здесь о связи этих трех философских систем с греческой жизнью, Маркс придавал «более глубокий смысл».
Правда, сам он иначе подходил к проблеме, занимавшей его не меньше, чем его старших друзей. Он не искал «человеческого самосознания, как верховного божества», кроме же его да не будет иного, ни в искажающем вогнутом зеркале религии, ни в досужем философствовании деспота, а предпочел обратиться к историческим источникам этой философии, в которой и он видел ключ к подлинной истории греческого духа.
Докторская диссертация
Когда осенью 1839 г. Бруно Бауэр убеждал Маркса сдать наконец «несчастный экзамен», он имел некоторое основание выражать нетерпение, ибо Маркс пробыл в университете уже восемь семестров. Но вряд ли он предполагал, что Маркс действительно боится этого экзамена; иначе он не был бы уверен, что его юный друг с первого налета разобьет в пух и прах боннских профессоров философии.
Характерной чертой Маркса до конца жизни было то, что неутолимая жажда знания заставляла его набрасываться на самые трудные проблемы, а неумолимая самокритика мешала ему быстро одолевать их. Следуя такому способу работы, он, очевидно, окунулся в самую глубь греческой философии; уяснить же себе вполне хотя бы только три системы самосознания было не так легко, чтобы справиться с этим в несколько семестров. Бауэр, сам работавший необычайно быстро – слишком быстро для долговечности его произведений, недостаточно это понимал, а впоследствии даже Энгельс, более чуткий в этом отношении, все же подчас выражал нетерпение, когда Маркс погружался в беспредельную самокритику.
И помимо того «несчастный экзамен» представлял некоторые осложнения если не для Бауэра, то для Маркса. Еще при жизни отца Маркс решил посвятить себя науке, но этим не устранялась необходимость выбора практической профессии. Но со смертью Альтенштейна исчезала самая заманчивая сторона профессуры, более всего искупавшая многочисленные теневые стороны, то есть сравнительная свобода в изложении философских взглядов с университетской кафедры. А как мало других преимуществ давал академический парик – об этом весьма красноречиво писал и Бауэр из Бонна.