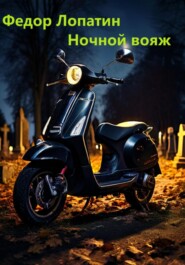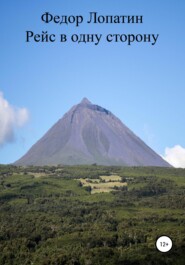По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Увольнительная
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Увольнительная
Федор Лопатин
Увольнительная для солдата – хрустальная мечта в тяжёлое время службы. И вот настаёт этот чудесный момент – дали свободу на целый день. Но никто не знает, чем может закончиться этот праздник жизни.
Федор Лопатин
Увольнительная
Григорьеву и Михееву, наконец-то, дали увольнительную. Командир роты отпустил их на весь выходной – это настоящее счастье для солдат, которые ещё ни разу, за полгода службы, не были на воле.
Двое молоденьких, в серых шинелях и шапках-ушанках, солдата думали сократить путь, чтобы не переходить железную дорогу по мосту, до которого было пол-километра: увольнение может так быстро пролететь.
– Слушай, – сказал Григорьев, – а давай через «железку» перескочим – всё быстрее будет.
– Давай, – согласился Михеев.
И они пошли через влажные серые рельсы.
– Так, погоди, у меня сигареты кончились, – сказал Григорьев. – Может, вернёмся в часть, и прихватим пару пачек?
– Да, ладно, в городе купим: ларьков, небось, куча.
– Ладно, там возьмём, – согласился Григорьев и быстро зашагал вперёд.
Он уже перешёл широкую путевую стрелку, а Михеев, ступив на стальной холодный рельс, неожиданно обернулся и посмотрел назад: «Зовёт что-ли кто?», подумал он. Его нога скользнула по металлу и провалилась между рельсами. Только он начал её вытаскивать, как вдруг автоматическая стрелка сдвинулась и железным капканом сдавила михеевский кирзовый сапог. Михеев заорал и дёрнул ногой, пытаясь освободиться от стальных клещей, но она так плотно застряла, что ему показалось, будто хрустнуло в лодыжке.
– А-а! – заорал Михеев, – ногу сломала, сволочь!
– Что? – не понял Григорьев, далеко ушедший вперёд.
– Нога застряла!
– Ну, вытаскивай, раз застряла!
– Не могу, зажало сильно!
Григорьев, матернувшись, подошёл к товарищу и посмотрел на его смятый кирзовый сапог: видимым оставалось лишь голенище.
– Ну-ка, выпрямись, дай я получше гляну, – деловито сказал он и наклонился к зажатой ноге. – Давай, двигай сапогом!
– Куда ж я буду двигать: смотри, какая она длинная? – Михеев махнул на стрелку и всхлипнул. – Она мне ногу сломала, наверное.
– Не хнычь. Подожди, сейчас кого-нибудь позовём.
Григорьев побежал к перрону, где в ожидании электрички стояло несколько человек: две бабы с огромными клетчатыми сумками, да один пожилой мужичок в грязном зелёном тулупе.
– Слышь, друг, пойдём парня вытащим – зажало его, – сказал Григорьев.
– Где зажало? – спросил мужичок, пыхнув папиросой в серое небо.
– Да там – на стрелке.
– А вещи я куда дену? – спросил он, не глядя на солдата, но по всему чувствовалось, что в этот момент о вещах ему думается меньше всего.
– Какие вещи? Пойдём быстрее! – крикнул Григорьев, хотя мужик уже прыгал с перрона.
– Друг твой, что ли? – задал он не нужный вопрос.
– Друг, друг, – вытолкнул слова Григорьев из осипшего горла.
Они побежали к стрелке. Несчастный, как мог, присел на влажный рельс и смотрел на свою ногу.
– Ну, давай, что делать-то? – спросил Григорьев у мужичка.
– Лом надо, – бросил тот и побежал вдоль путей, осматривая землю между рельсами.
– Ну, что там? – крикнул Григорьев. Мужичок всё бежал вдоль путей – отвечать было некогда. Через минуту он остановился, присматриваясь к чему-то, и подобрал какую-то палку.
– Арматурина! Тонкая, правда! – крикнул он Григорьеву.
– Давай, давай! – махнул Григорьев рукой, и услышал шум поезда. – Идёт, гад, – прошептал он.
– Сань, ну чё там? – по-ребячьи жалобно всхлипнул Михеев.
– Ни чё! – крикнул Григорьев, – идёт уже!
– Кто идёт? – тихо спросил Михеев, уставясь сквозь слёзы на появившееся вдали серое пятно.
– Быстрей беги! – крикнул Григорьев мужичку, который уже и так подбежав, сунул арматурину в стрелку, и, потянув её обеими руками, хотел чуть-чуть раздвинуть стальные клещи. Но жёстко сомкнувшееся железо не поддалось человеческой силе.
Поезд шёл быстро. «Скорый!» – мелькнула у Григорьева мысль.
Михеев плакал, чуя скорое и неизбежное, держась за зажатую ногу, пытаясь ею двигать в разные стороны, но всё было бесполезно: поезд уже был на расстоянии двухсот метров. Слёзы мешали Михееву рассмотреть приближавшуюся громадину, и он махнул по глазам грязным рукавом шинели, отчего на переносице и щеке вспух розовый след.
– Ну что он не тормозит, а?! – заорал Григорьев. – Стой! – он побежал навстречу поезду, но тот будто не хотел, да и не мог остановиться, и лишь беспрерывно гудел.
– Никак! – заорал Григорьев, мотая головой и глядя на бедного Михеева, будто жалуясь ему на непослушную машину.
– Нет, не могу! – крикнул мужичок и бросил арматурину в сторону. – Снимай шинель, сынок,– сказал он Михееву. Но тот молчал, боясь сказать хоть слово: он только смотрел мокрыми круглыми глазами на поезд и по-собачьи скулил.
– Давай, давай, лучше будет, – тихо прошептал мужичок и сам снял с остолбеневшего Михеева шинель, давно расстёгнутую ещё там, на КПП, когда он убирал документы в китель.
– Ложись, – сказал мужичок и пригнул Михеева к земле, как можно дальше отодвинув его от гудящих рельсов. Тот вскрикнул от боли в лодыжке, но лёг.
Мягкое, тёплое чёрное накрыло всё его тело, и он ещё мог вдохнуть и почувствовать запах сырого, пропитанного собственным потом, грубого сукна. Но вдруг он задёргался под шинелью, и хотел, было, освободиться, но мужичок навалился на Михеева всем телом и вмял его в сырой, смешанный со щебнем, песок.
Григорьев уже отскочил от поезда и мчался обратно – по другой стороне железнодорожного полотна. Он увидел на месте Михеева серый холмик, выраставший из чего-то чёрного смятого и бугристого, которое перевешивалось через рельс. Поезд приблизился, «сожрав» последние метры холодного железа, и сгладил своей многотонной тяжестью то бугристое и чёрное.
Ни крика, ни единого звука не услышал Григорьев – он оглох от нескончаемых гудков поезда. Он ничего не видел – поезд отделял его от Михеева, прижатого к земле жёсткими мужскими руками…
Федор Лопатин
Увольнительная для солдата – хрустальная мечта в тяжёлое время службы. И вот настаёт этот чудесный момент – дали свободу на целый день. Но никто не знает, чем может закончиться этот праздник жизни.
Федор Лопатин
Увольнительная
Григорьеву и Михееву, наконец-то, дали увольнительную. Командир роты отпустил их на весь выходной – это настоящее счастье для солдат, которые ещё ни разу, за полгода службы, не были на воле.
Двое молоденьких, в серых шинелях и шапках-ушанках, солдата думали сократить путь, чтобы не переходить железную дорогу по мосту, до которого было пол-километра: увольнение может так быстро пролететь.
– Слушай, – сказал Григорьев, – а давай через «железку» перескочим – всё быстрее будет.
– Давай, – согласился Михеев.
И они пошли через влажные серые рельсы.
– Так, погоди, у меня сигареты кончились, – сказал Григорьев. – Может, вернёмся в часть, и прихватим пару пачек?
– Да, ладно, в городе купим: ларьков, небось, куча.
– Ладно, там возьмём, – согласился Григорьев и быстро зашагал вперёд.
Он уже перешёл широкую путевую стрелку, а Михеев, ступив на стальной холодный рельс, неожиданно обернулся и посмотрел назад: «Зовёт что-ли кто?», подумал он. Его нога скользнула по металлу и провалилась между рельсами. Только он начал её вытаскивать, как вдруг автоматическая стрелка сдвинулась и железным капканом сдавила михеевский кирзовый сапог. Михеев заорал и дёрнул ногой, пытаясь освободиться от стальных клещей, но она так плотно застряла, что ему показалось, будто хрустнуло в лодыжке.
– А-а! – заорал Михеев, – ногу сломала, сволочь!
– Что? – не понял Григорьев, далеко ушедший вперёд.
– Нога застряла!
– Ну, вытаскивай, раз застряла!
– Не могу, зажало сильно!
Григорьев, матернувшись, подошёл к товарищу и посмотрел на его смятый кирзовый сапог: видимым оставалось лишь голенище.
– Ну-ка, выпрямись, дай я получше гляну, – деловито сказал он и наклонился к зажатой ноге. – Давай, двигай сапогом!
– Куда ж я буду двигать: смотри, какая она длинная? – Михеев махнул на стрелку и всхлипнул. – Она мне ногу сломала, наверное.
– Не хнычь. Подожди, сейчас кого-нибудь позовём.
Григорьев побежал к перрону, где в ожидании электрички стояло несколько человек: две бабы с огромными клетчатыми сумками, да один пожилой мужичок в грязном зелёном тулупе.
– Слышь, друг, пойдём парня вытащим – зажало его, – сказал Григорьев.
– Где зажало? – спросил мужичок, пыхнув папиросой в серое небо.
– Да там – на стрелке.
– А вещи я куда дену? – спросил он, не глядя на солдата, но по всему чувствовалось, что в этот момент о вещах ему думается меньше всего.
– Какие вещи? Пойдём быстрее! – крикнул Григорьев, хотя мужик уже прыгал с перрона.
– Друг твой, что ли? – задал он не нужный вопрос.
– Друг, друг, – вытолкнул слова Григорьев из осипшего горла.
Они побежали к стрелке. Несчастный, как мог, присел на влажный рельс и смотрел на свою ногу.
– Ну, давай, что делать-то? – спросил Григорьев у мужичка.
– Лом надо, – бросил тот и побежал вдоль путей, осматривая землю между рельсами.
– Ну, что там? – крикнул Григорьев. Мужичок всё бежал вдоль путей – отвечать было некогда. Через минуту он остановился, присматриваясь к чему-то, и подобрал какую-то палку.
– Арматурина! Тонкая, правда! – крикнул он Григорьеву.
– Давай, давай! – махнул Григорьев рукой, и услышал шум поезда. – Идёт, гад, – прошептал он.
– Сань, ну чё там? – по-ребячьи жалобно всхлипнул Михеев.
– Ни чё! – крикнул Григорьев, – идёт уже!
– Кто идёт? – тихо спросил Михеев, уставясь сквозь слёзы на появившееся вдали серое пятно.
– Быстрей беги! – крикнул Григорьев мужичку, который уже и так подбежав, сунул арматурину в стрелку, и, потянув её обеими руками, хотел чуть-чуть раздвинуть стальные клещи. Но жёстко сомкнувшееся железо не поддалось человеческой силе.
Поезд шёл быстро. «Скорый!» – мелькнула у Григорьева мысль.
Михеев плакал, чуя скорое и неизбежное, держась за зажатую ногу, пытаясь ею двигать в разные стороны, но всё было бесполезно: поезд уже был на расстоянии двухсот метров. Слёзы мешали Михееву рассмотреть приближавшуюся громадину, и он махнул по глазам грязным рукавом шинели, отчего на переносице и щеке вспух розовый след.
– Ну что он не тормозит, а?! – заорал Григорьев. – Стой! – он побежал навстречу поезду, но тот будто не хотел, да и не мог остановиться, и лишь беспрерывно гудел.
– Никак! – заорал Григорьев, мотая головой и глядя на бедного Михеева, будто жалуясь ему на непослушную машину.
– Нет, не могу! – крикнул мужичок и бросил арматурину в сторону. – Снимай шинель, сынок,– сказал он Михееву. Но тот молчал, боясь сказать хоть слово: он только смотрел мокрыми круглыми глазами на поезд и по-собачьи скулил.
– Давай, давай, лучше будет, – тихо прошептал мужичок и сам снял с остолбеневшего Михеева шинель, давно расстёгнутую ещё там, на КПП, когда он убирал документы в китель.
– Ложись, – сказал мужичок и пригнул Михеева к земле, как можно дальше отодвинув его от гудящих рельсов. Тот вскрикнул от боли в лодыжке, но лёг.
Мягкое, тёплое чёрное накрыло всё его тело, и он ещё мог вдохнуть и почувствовать запах сырого, пропитанного собственным потом, грубого сукна. Но вдруг он задёргался под шинелью, и хотел, было, освободиться, но мужичок навалился на Михеева всем телом и вмял его в сырой, смешанный со щебнем, песок.
Григорьев уже отскочил от поезда и мчался обратно – по другой стороне железнодорожного полотна. Он увидел на месте Михеева серый холмик, выраставший из чего-то чёрного смятого и бугристого, которое перевешивалось через рельс. Поезд приблизился, «сожрав» последние метры холодного железа, и сгладил своей многотонной тяжестью то бугристое и чёрное.
Ни крика, ни единого звука не услышал Григорьев – он оглох от нескончаемых гудков поезда. Он ничего не видел – поезд отделял его от Михеева, прижатого к земле жёсткими мужскими руками…