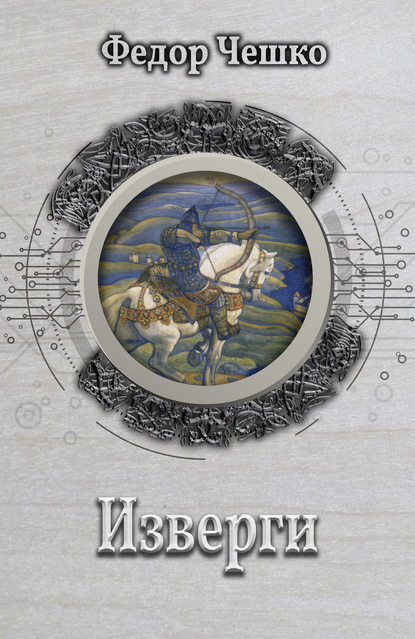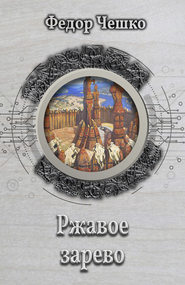По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Изверги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вертелся, ворочался Кудеслав на застланных мехом полатях, и вертелись, ворочались в Кудеславовой голове однообразные тревожные мысли о волхве, который…
Который что?
Что, собственно, такого тревожного происходит? Ну, где-то по ночной дебри-матушке бродит одинокий волхв Белоконь, и там же бродит охочее до людского мясца медведище. Ну и что? Отчего ты, Кудеслав Мечник, волнуешься? Отчего ты волнуешься именно за Белоконя? Да всего лишь оттого, что Белоконь тебе друг, а медведь – нет. На деле же небось еще бы дюжую дюжину раз подумать, кому из этих двоих следует больше бояться ночной чащи, по которой бродит второй.
Даже ты, после отцовой смерти оставшийся чуть ли не единственным душевным свойственником Белоконя, – даже ты пару-тройку раз пугался старого волхва. По?нешуточному пугался, как никого и ничего другого.
Наверно, Мечника все же сморила вкрадчивая полудрема, в которую так любит переливаться задумчивость усталого, изволновавшегося человека. Потому что слишком уж ярко припомнился Кудеславу один из тех случаев, когда…
…Это было незадолго до распри с мордвой. Мечник уже забыл, чего ради довелось ему тем летним ласковым предвечерьем бродить пешком в неблизких окрестностях Белоконева подворья. Выполнял ли тогда Кудеслав какое-то поручение Яромира или какую-то просьбу волхва – то не важно. Важно, что по пути он чуть не споткнулся о мышкующую лисицу. Чащобная хитрованка была до полного самозабвения увлечена своим хищным делом, а потому не только подпустила человека на шаг-полтора, но и позволила несколько мгновений разглядывать себя с подобного, так сказать, расстояния.
Да уж, лисица оплошала изрядно, но Кудеслав-то не замедлил оплошать в дюжину крат сильней! Правильно все-таки Велимир ворчит иногда о своем названом сыне, будто из того охотник, как из соловьиного хвоста – воротник. Мех беспечной лисы действительно был редкостного буровато-черного цвета, да только кто ж при здравом уме добывает пушнину летом?!
Заметив наконец в прямом смысле слова нависшую над нею опасность, чернобурка слепо кинулась прочь, влетела в непролазный колючий куст, затрепыхалась, как щука в неводе… Пока ошалелая зверина выбарахтывалась из цепких ветвей, Мечник успел по какому-то дурацкому наитию изготовить бывший при нем лук.
Бить лису острожалой стрелой значило по-глупому дырявить и без того никому не нужную дрянную летнюю шкуру. Однако же Кудеслав вспомнил об этом, лишь спуская тетиву.
В самый последний миг вознамерясь избежать затеянной дурости, Мечник испортил выстрел, но промахнуться все-таки не сумел. Вышло так, что хуже и не придумаешь: стрела прошила улепетывающую чернобурку навылет, но лисица только прыти наддала от этого попадания.
Выругавшись нехорошо и длинно, Кудеслав отправился подбирать стрелу; потом, чуть ли не бороздя носом лесную подстилку, прошел с десяток шагов вдоль кровяного следа. Велимир, наверное, мигом бы понял, смертельно ли подранена бедолашная зверина, но железноголовый Урман лишь хмыкал досадливо да пожимал плечами. По его впечатлению, человек с этакой раной вряд ли бы дожил до темна. А лисица… Чем леший не шутит – может, она забьется куда-нибудь в крепь, отлежится, очухается… Или все-таки сдохнет, и вот тогда дурню-подстрелыцику не миновать гнева Лисьего Деда. Получается, означенному дурню теперь лишь одно спасенье: выследить и добить. И съесть, что ли, хоть кусочек добычи – тогда смерть чернобурки обретет какое-то подобие смысла. А иначе свою вину перед лисьим родом Мечнику не загладить.
Так что Кудеслав Урман на голом месте наделал себе изрядных хлопот. Тени длиннеют, Хорсов златой свет наливается пока еще робкой червленью – предвестницей вызревающего заката… Удастся ли быстро догнать раненую тварь? А если не удастся, то как искать не шибко явственный след в сумерках, в ночной темноте? Придется откладывать до утра, придется и завтрашний день тратить на расхлебывание мимолетной глупости… И при любом исходе нужно будет задобрить Лисьего Деда обильной требой да обещаньем (сторожких-то и боги устерегают!) впредь никогда не трогать его хвостатых родовичей…
…Цепочка кровяных капель вывела в какое-то вовсе незнакомое, неприятное место.
Боясь потерять след, Мечник безотрывно смотрел под ноги – и все же его угораздило споткнуться о подвернувшуюся под эти самые ноги черную, словно бы окаменелую коряжину. С изрядным трудом удержавшись-таки от падения, он мимо воли чиркнул рассеянным взглядом окрест себя… и обомлел.
Здесь был пожар. Когда-то. Давным давно. Мелколесье выгорело начисто, а великанские полутораохватные дубы обуглились, потеряли ветви, кору, жизнь, но остались стоять чудовищными черными трупами.
Обычно лесные гарища стремительно зарастают травой, кустарником, сорными жердеподобными деревцами…
А здесь был только мох. Кудлатая буро-зеленая хлябь топила подножия дубов-мертвецов, бурые лохмотья висли с культеподобных угольных сучьев… И надо всем этим – воспаленность болезненного заката…
Мечник мгновенно забыл и о подраненной чернобурке, и о мести Лисьего Деда. Он, Мечник, на какое-то время забыл даже о том, что кроме зрения у него есть еще какие-то чувства. Впрочем, довольно скоро своему хозяину напомнил о себе слух.
Отмахиваясь от заунывного, стонущего нытья, Кудеслав злобно помянул назойливую дрянь, лезущую в самые уши. Ну, хочется тебе человечьей крови – хряк с тобой, кусай уже да и проваливай, откуда прилетела. Нет же, зудит и зудит, паскуда…
Лишь убедившись, что отмахивания и брань одинаково бессильны против надоедливого заунывья, Мечник вдруг осознал: это не жужжание летучего кровососа. Это далекий человеческий голос. Пение, что ли?
Миг-другой промешкав в тягостной нерешительности, Кудеслав вдруг сорвался с места и стремительно зашагал на звук – похоже, ради единственной цели – скрыть от самого же себя, до чего ему, Кудеславу Мечнику, не хочется приближаться к неведомому то ли певцу, то ли нежить знает кому. Да уж, нежить… Очень может статься, что именно только нежить и знает, кто и зачем полупоет, полувоет здесь, на обомшелом лесном пожарище.
Вскоре пение смолкло. Но идти наугад не пришлось: неведомый певец затеял какую-то судорожную возню, отчетливо слышимую даже на явно еще изрядном расстоянии. Потом сквозь эти звуки пропоролось тонкое визгливое ржание.
А потом Мечник едва не повернул обратно.
Впереди меж великанскими стоячими головешками замаячило трудно распознаваемое подобье насыпного вала – давнего, оплывшего… и, конечно же, обомшелого, как и все в этом безрадостном месте. А близ него обнаружилось наконец недоубитое давним огнем дерево. Корявое, растущее вкось, оно словно бы рвалось встречь Кудеславу, призывно помахивая на ветру единственной скуднолиственной ветвью. Однако же на ветви этой были не только листья. Мечник еще издали разглядел подвешенные на заплесневелых ремешках волчьи черепа, полуистлевшие клапти меха, глиняные фигурки, до полной невнятности искрошенные ветром…
Лесное святилище мерян – только этого не хватало! Кудеслав на своем веку многого понаслушался про мерянских богов, и теперь первой его мыслью было опасливое: «Съедят, пожалуй…».
Уже попятившись, Мечник вдруг снова остановился и размашисто хлопнул себя по лбу.
Дурень заполошный! Хоть бы ж подумал: с чего бы это мери взбрело обустраивать свое капище так близко (меньше чем в четверти дня пешей ходьбы) от обиталища волхва-хранильника? Того самого волхва-хранильника, которого иноязыкие чащобные племена почитают ближней роднёю Лесного Деда. И боятся. Так уж не Белоконю ли предназначены дары Нарядного Дерева?!
И тут вдруг Кудеславу ясней ясного намекнули, что здешнее Нарядное Дерево посещаемо не одною лишь мерью.
Совсем рядом, быть может прямо по ту сторону придавленного мхами вала, кто-то заговорил – тягуче, напевно:
Жизнь, нежиль…
Тонка межа.
И смерть, и роды – мученье.
Одно движенье ножа
Врезает в гибель рожденье.
Горячий багряный свет
На полосу мрака брызнет —
И черное выпьет цвет,
И нежиль напьется жизни.
Пускай остренный кремень
Плоть смертной мукою гложет,
Пусть тень перельется в тень
Того, кто прийти не может,
Но может на миг вдохнуть
В рожденные смертью жилы
Ничтожную долю-чуть
Своей всемогущей силы.
И вновь иззубренным ножом полоснуло Мечников слух тонкое судорожное ржание…
Так навсегда и осталось тайной для Кудеслава, что его заставило бесшумной тенью метнуться вперед, приникнуть к насыпи и осторожно заглянуть за нее. И одного, первого же взгляда Мечнику хватило, чтобы подосадовать на свое любопытство. Потому что увиденное явно нельзя было видеть случайному, стороннему человеку.
Насыпь не была насыпью.
Если изо всех сил швырнуть камнем в мокрую глину, получится этакая ямка-колдобинка, словно бы обнесенная валом расплескавшейся грязи. Но что и с какой ужасающей силой должно было грянуться в здешние леса, чтобы сама тугая шкура земли расплескалась по жидкому? И чтобы получилась ямища, способная целиком уместить в себе градскую избу?
Который что?
Что, собственно, такого тревожного происходит? Ну, где-то по ночной дебри-матушке бродит одинокий волхв Белоконь, и там же бродит охочее до людского мясца медведище. Ну и что? Отчего ты, Кудеслав Мечник, волнуешься? Отчего ты волнуешься именно за Белоконя? Да всего лишь оттого, что Белоконь тебе друг, а медведь – нет. На деле же небось еще бы дюжую дюжину раз подумать, кому из этих двоих следует больше бояться ночной чащи, по которой бродит второй.
Даже ты, после отцовой смерти оставшийся чуть ли не единственным душевным свойственником Белоконя, – даже ты пару-тройку раз пугался старого волхва. По?нешуточному пугался, как никого и ничего другого.
Наверно, Мечника все же сморила вкрадчивая полудрема, в которую так любит переливаться задумчивость усталого, изволновавшегося человека. Потому что слишком уж ярко припомнился Кудеславу один из тех случаев, когда…
…Это было незадолго до распри с мордвой. Мечник уже забыл, чего ради довелось ему тем летним ласковым предвечерьем бродить пешком в неблизких окрестностях Белоконева подворья. Выполнял ли тогда Кудеслав какое-то поручение Яромира или какую-то просьбу волхва – то не важно. Важно, что по пути он чуть не споткнулся о мышкующую лисицу. Чащобная хитрованка была до полного самозабвения увлечена своим хищным делом, а потому не только подпустила человека на шаг-полтора, но и позволила несколько мгновений разглядывать себя с подобного, так сказать, расстояния.
Да уж, лисица оплошала изрядно, но Кудеслав-то не замедлил оплошать в дюжину крат сильней! Правильно все-таки Велимир ворчит иногда о своем названом сыне, будто из того охотник, как из соловьиного хвоста – воротник. Мех беспечной лисы действительно был редкостного буровато-черного цвета, да только кто ж при здравом уме добывает пушнину летом?!
Заметив наконец в прямом смысле слова нависшую над нею опасность, чернобурка слепо кинулась прочь, влетела в непролазный колючий куст, затрепыхалась, как щука в неводе… Пока ошалелая зверина выбарахтывалась из цепких ветвей, Мечник успел по какому-то дурацкому наитию изготовить бывший при нем лук.
Бить лису острожалой стрелой значило по-глупому дырявить и без того никому не нужную дрянную летнюю шкуру. Однако же Кудеслав вспомнил об этом, лишь спуская тетиву.
В самый последний миг вознамерясь избежать затеянной дурости, Мечник испортил выстрел, но промахнуться все-таки не сумел. Вышло так, что хуже и не придумаешь: стрела прошила улепетывающую чернобурку навылет, но лисица только прыти наддала от этого попадания.
Выругавшись нехорошо и длинно, Кудеслав отправился подбирать стрелу; потом, чуть ли не бороздя носом лесную подстилку, прошел с десяток шагов вдоль кровяного следа. Велимир, наверное, мигом бы понял, смертельно ли подранена бедолашная зверина, но железноголовый Урман лишь хмыкал досадливо да пожимал плечами. По его впечатлению, человек с этакой раной вряд ли бы дожил до темна. А лисица… Чем леший не шутит – может, она забьется куда-нибудь в крепь, отлежится, очухается… Или все-таки сдохнет, и вот тогда дурню-подстрелыцику не миновать гнева Лисьего Деда. Получается, означенному дурню теперь лишь одно спасенье: выследить и добить. И съесть, что ли, хоть кусочек добычи – тогда смерть чернобурки обретет какое-то подобие смысла. А иначе свою вину перед лисьим родом Мечнику не загладить.
Так что Кудеслав Урман на голом месте наделал себе изрядных хлопот. Тени длиннеют, Хорсов златой свет наливается пока еще робкой червленью – предвестницей вызревающего заката… Удастся ли быстро догнать раненую тварь? А если не удастся, то как искать не шибко явственный след в сумерках, в ночной темноте? Придется откладывать до утра, придется и завтрашний день тратить на расхлебывание мимолетной глупости… И при любом исходе нужно будет задобрить Лисьего Деда обильной требой да обещаньем (сторожких-то и боги устерегают!) впредь никогда не трогать его хвостатых родовичей…
…Цепочка кровяных капель вывела в какое-то вовсе незнакомое, неприятное место.
Боясь потерять след, Мечник безотрывно смотрел под ноги – и все же его угораздило споткнуться о подвернувшуюся под эти самые ноги черную, словно бы окаменелую коряжину. С изрядным трудом удержавшись-таки от падения, он мимо воли чиркнул рассеянным взглядом окрест себя… и обомлел.
Здесь был пожар. Когда-то. Давным давно. Мелколесье выгорело начисто, а великанские полутораохватные дубы обуглились, потеряли ветви, кору, жизнь, но остались стоять чудовищными черными трупами.
Обычно лесные гарища стремительно зарастают травой, кустарником, сорными жердеподобными деревцами…
А здесь был только мох. Кудлатая буро-зеленая хлябь топила подножия дубов-мертвецов, бурые лохмотья висли с культеподобных угольных сучьев… И надо всем этим – воспаленность болезненного заката…
Мечник мгновенно забыл и о подраненной чернобурке, и о мести Лисьего Деда. Он, Мечник, на какое-то время забыл даже о том, что кроме зрения у него есть еще какие-то чувства. Впрочем, довольно скоро своему хозяину напомнил о себе слух.
Отмахиваясь от заунывного, стонущего нытья, Кудеслав злобно помянул назойливую дрянь, лезущую в самые уши. Ну, хочется тебе человечьей крови – хряк с тобой, кусай уже да и проваливай, откуда прилетела. Нет же, зудит и зудит, паскуда…
Лишь убедившись, что отмахивания и брань одинаково бессильны против надоедливого заунывья, Мечник вдруг осознал: это не жужжание летучего кровососа. Это далекий человеческий голос. Пение, что ли?
Миг-другой промешкав в тягостной нерешительности, Кудеслав вдруг сорвался с места и стремительно зашагал на звук – похоже, ради единственной цели – скрыть от самого же себя, до чего ему, Кудеславу Мечнику, не хочется приближаться к неведомому то ли певцу, то ли нежить знает кому. Да уж, нежить… Очень может статься, что именно только нежить и знает, кто и зачем полупоет, полувоет здесь, на обомшелом лесном пожарище.
Вскоре пение смолкло. Но идти наугад не пришлось: неведомый певец затеял какую-то судорожную возню, отчетливо слышимую даже на явно еще изрядном расстоянии. Потом сквозь эти звуки пропоролось тонкое визгливое ржание.
А потом Мечник едва не повернул обратно.
Впереди меж великанскими стоячими головешками замаячило трудно распознаваемое подобье насыпного вала – давнего, оплывшего… и, конечно же, обомшелого, как и все в этом безрадостном месте. А близ него обнаружилось наконец недоубитое давним огнем дерево. Корявое, растущее вкось, оно словно бы рвалось встречь Кудеславу, призывно помахивая на ветру единственной скуднолиственной ветвью. Однако же на ветви этой были не только листья. Мечник еще издали разглядел подвешенные на заплесневелых ремешках волчьи черепа, полуистлевшие клапти меха, глиняные фигурки, до полной невнятности искрошенные ветром…
Лесное святилище мерян – только этого не хватало! Кудеслав на своем веку многого понаслушался про мерянских богов, и теперь первой его мыслью было опасливое: «Съедят, пожалуй…».
Уже попятившись, Мечник вдруг снова остановился и размашисто хлопнул себя по лбу.
Дурень заполошный! Хоть бы ж подумал: с чего бы это мери взбрело обустраивать свое капище так близко (меньше чем в четверти дня пешей ходьбы) от обиталища волхва-хранильника? Того самого волхва-хранильника, которого иноязыкие чащобные племена почитают ближней роднёю Лесного Деда. И боятся. Так уж не Белоконю ли предназначены дары Нарядного Дерева?!
И тут вдруг Кудеславу ясней ясного намекнули, что здешнее Нарядное Дерево посещаемо не одною лишь мерью.
Совсем рядом, быть может прямо по ту сторону придавленного мхами вала, кто-то заговорил – тягуче, напевно:
Жизнь, нежиль…
Тонка межа.
И смерть, и роды – мученье.
Одно движенье ножа
Врезает в гибель рожденье.
Горячий багряный свет
На полосу мрака брызнет —
И черное выпьет цвет,
И нежиль напьется жизни.
Пускай остренный кремень
Плоть смертной мукою гложет,
Пусть тень перельется в тень
Того, кто прийти не может,
Но может на миг вдохнуть
В рожденные смертью жилы
Ничтожную долю-чуть
Своей всемогущей силы.
И вновь иззубренным ножом полоснуло Мечников слух тонкое судорожное ржание…
Так навсегда и осталось тайной для Кудеслава, что его заставило бесшумной тенью метнуться вперед, приникнуть к насыпи и осторожно заглянуть за нее. И одного, первого же взгляда Мечнику хватило, чтобы подосадовать на свое любопытство. Потому что увиденное явно нельзя было видеть случайному, стороннему человеку.
Насыпь не была насыпью.
Если изо всех сил швырнуть камнем в мокрую глину, получится этакая ямка-колдобинка, словно бы обнесенная валом расплескавшейся грязи. Но что и с какой ужасающей силой должно было грянуться в здешние леса, чтобы сама тугая шкура земли расплескалась по жидкому? И чтобы получилась ямища, способная целиком уместить в себе градскую избу?