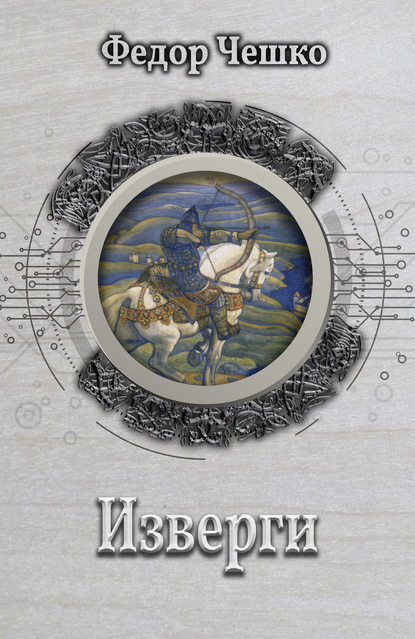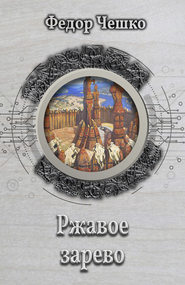По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Изверги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Все-таки бессонная ночь исподволь брала своё. Мало-помалу Кудеславовы веки отяжелели, мысли сделались вялыми, путаными, и начало уже грезиться разомлевшему Мечнику смутно-заманчивое, бередящее душу видение, как вдруг чья-то рука вцепилась в плечо, затрясла, спугнула долгожданную дрему.
Кудеслав подхватился, заморгал обалдело – сквозь слипшиеся ресницы лицо разбудившего показалось нечеловеческим, зыбким продолженьем спугнутого сна. Но был это всего-навсего Велимир, отцов брат, который после гибели родителей Кудеслава милосердно принял к себе их единственное малолетнее чадо, а заодно и все оставшееся без хозяев изрядное достоянье.
– Вставай, – буркнул Велимир. – Тебя старейшина к себе кличет.
Он выпустил Кудеславово плечо и отошел от полатей, уронив за собою плотный меховой полог – это чтобы разбуженный мог выбраться из ложа, не смутив наготой случайный взгляд названой матери, названой сестры, жены названого брата или кто там еще из неродных женщин мог оказаться поблизости. Вот так-то: в бороде уже седые волоски появились, а ни семьи своей, ни хозяйства не нажил, и вместо жилья – занавешенный угол в отцовой избе, которая не тебе досталась и твоею никогда не будет. Кого винить? Злую долю-судьбу? Себя? Последнее будет вернее.
Впрочем, Кудеславу было не до тягостных сожалений о собственной неприкаянности. С новой силой ожил страх за старого ведуна: Яромир не станет ради какого-нибудь пустяка тревожить сородича, отдыхающего после ночных трудов на общинное благо. Не из-за Белоконева ли гонца старейшина кличет к себе Мечника Кудеслава?
Быстро оделся; по давней привычке шагу не ступать без оружия заткнул за голенище сапога короткий широкий нож; в тесных полутемных сенях черпнул ковшом из кадки снеговой талой воды, напился, остатки растер по лицу, добивая сонливость…
Снаружи оказалось нерадостно. Бывшее на рассвете ясным да чистым небо заволоклось мглистой пеленой и сеяло ленивый влажный снежок. Оскальзываясь на подтаявшей глине, Кудеслав в полдесятка шагов пересек тесный дворик, махнул через жердяной плетеный забор (изнутри приступка и снаружи приступка – это чтоб не возиться с длинной неуклюжей воротиной, которую отворяют, лишь выезжая со двора телегой либо верхом). Шапку он не надел, полушубка не подпоясал – жилье старейшины от Велимирового через два плетня, так что по дороге вряд ли успеешь озябнуть.
Как и все те, которых родовичи когда-либо удостаивали властвовать над собою, Яромир жил не в своей избе, а в общинной, что окнами глядела на чельную площадь града.
Изба просторная да теплая; крыта она тесом, а не травой, как большинство изб простых общинников. Однако ни двора, ни хлева при ней нет – лишь сарай для двух от общества же выделенных коней. И плетня вокруг нет. Нечего старейшине отгораживаться от рода, как нечего ему тяготиться заботами о собственном хозяйстве. Ему не о своем благополучии надо радеть, а о благополучии всех. Община поставила его над собой, она же и прокормит. Если успел он к своим преклонным годам вырастить сыновей (а иначе бывало редко), так они и сберегут его достояние; если же нет, то ради общинного блага собственным можно и должно пренебрегать.
В собственную избу Яромир сможет вернуться, лишь когда снимет с плеч возложенное родом-племенем бремя. Такое может случиться, не одна лишь смерть способна избавить старейшину от долга перед вверившейся ему общиной. К примеру, Слепый, Яромиров предшественник, доброю волей сложил с себя родовое главенство, почуяв близкое расстройство перенапряженного ума.
Чельная градская площадь еще велика, хоть и теснят ее все сильней плетни да пахнущие свежим смольем стены новых избяных пристроек, – невзирая на многочисленные привычные беды, община растет, семьи множатся, и вскоре граду станет вовсе тесна закута старого тына. Но застраивать площадь нельзя. Это место для летучих сполошных сходов (для обыденных мирных дел общество собирается возле древнего родового дуба, что стоит близ пристани). Здесь под тесовым навесом поставлено вечевое било – пустотелый обрубок огромного липового ствола.
Прежде било стояло на сторожевой вышке. Но в запрошлом году подступившая ко граду мордва вышку спалила – три дня напролет мордовские удальцы метали в нее горящие стрелы и таки подожгли (как все же невелик град: даже хоронясь за деревьями, что с краю поляны, хороший лучник шутя докинет стрелу до самой городской середины). В то же лето затеяли строить новую – чтобы выше прежней да чтобы поджигать было вовсе напрасным занятием, – но по сию пору успели возвести остов всего лишь на три человеческих роста. Видать, не раньше чем годов через пять красоваться граду новой охоронною вышкой… Это если к той поре она здесь еще будет надобна, если уцелеет здесь град и сама община – не от злых врагов уцелеет, а от затей собственной же крови-плоти.
Общинная изба красна да затейлива. На двускатной крыше резной гребень, глядящий на восток и на запад двумя деревянными конскими головами (белый конь – одно из видимых человечьему глазу воплощений превеликого Световита-Светловида). Крыльцо высокое, в пять ступеней, с тесовым навесом на витых столбиках (с этого крыльца старейшина обращается к родовичам, прибежавшим по зову била на сход). Над гладко оструганной дверью резной лик Хорса-Светотворителя; на самой двери бронзовая голова невиданного зверя с кольцом в зубах – долгонько, поди, кочевала по торжищам персидская вещь, прежде чем прижиться в затерявшемся среди бескрайних лесов вятичском граде.
К одному из столбиков крыльца был прислонен веник – перетянутый мочалом пук прошлогодних березовых прутьев. Кудеслав обмахнул им прилипшую на сапоги глину, а может статься, и не только ее (береза – дерево доброе, она пособит стряхнуть и то, что куда хуже уличной грязи). В сумеречных просторных сенях, освещенных лишь затянутым скобленою кожей оконцем, он снял сапоги, оставив нож в голенище, потом нашарил на стене деревянный гвоздь с набалдашником в виде ощеренной кабаньей морды, навесил на него полушубок и лишь затем, крепко стиснув в кулаке подношение, осторожно толкнул дверь, ведущую внутрь.
В общинную избу нельзя врываться наспех, как был на улице, тем более при оружии, если пора мирная, а быть оружным не назначено специальным велением. Потому что посреди избы вспучился кругом дикого камня неугасимый Родовой Очаг – место, над которым незримо и безотлучно витают Навьи и души тех пращуров, кому после смерти назначено блюсти продолжение рода.
Шепча привычные, в плоть, кровь и душу укоренившиеся слова, Кудеслав бросил в Очаг кусочек мяса да клок горностаевой шкурки. Потом, затаив дыхание, проследил: не поникнет ли хоть на миг пламя, не качнется ли к земле прозрачная струйка копоти, завивающаяся под высокую кровлю?
Нет, дурного знамения не случилось.
ОНИ приняли.
Только окончательно уверившись в этом, Кудеслав оборотился туда, где на низких просторных полатях неподвижным истуканом сидел Яромир.
– Здрав будь… – Мечник запнулся, не договоря положенного по обычаю. В неподвижности старейшины чувствовалось что-то принужденное, тревожное. Не случилось ли с ним чего?
– И ты будь, – еле слышно выговорил Яромир – в неверном свете тусклых оконец и очага видно было, как шевельнулась темная борода на обтянутой белым груди.
Старейшина поднялся со скрипнувших полатей и шагнул ближе к.гостю, неслышно ступая босыми ногами по утоптанной до каменной твердости земле. Были на нем лишь рубаха тонкого полотна да такие же штаны; избу же, по всему судя, с утра не топили – вон на стропилинах поверх копоти иней уселся. Кудеслава, одетого не в холстину, а в кожу, и то зазнобило… Да, крепок нынешний старейшина, куда как крепок даже для своих не ахти каких старых лет.
Если бы Кудеслав, вопреки обычаю, все-таки решился подстегнуть Яромирову медлительность нетерпеливым вопросом (чего, мол, ты этак-то: звал, торопил, поспать не дал, а теперь молчишь?), он бы не успел и рта приоткрыть.
Из-за мехового полога, отделявшего женскую половину, вывернулась вдруг которая-то из Яромировых жен: тоже босая и в одной рубахе до пят, но распаренная, красная – видать, только от жаркого очага. В руках у нее исходила крутым мясным паром увесистая глиняная миска. Коротко поклонившись Кудеславу, женщина зашарила растерянным взглядом по избе, словно искала кого-то.
– Назад неси, – вполголоса бросил ей Яромир. – Сморило его. И пускай себе, не буди. Похлебает, когда проснется.
Только теперь Кудеслав заметил, что на полатях близ того места, где давеча сидел старейшина, враскидку спал присланный Белоконем малец (вот, стало быть, откуда недавняя принужденная неподвижность родового главы – небось потревожить боялся).
Несколько мгновений все трое – Кудеслав, Яромир и женщина – глядели на спящего. Давеча у ворот Мечник решил, что мальцу от роду лет тринадцать; теперь же подумалось, будто и того меньше.
Коротко, по-детски стриженные ярко-рыжие волосы (родитель, поди, или еще кто нахлобучил на голову недорослю горшок, наспех отхватил торчащие из-под глиняной закраины патлы – и будет с него, голобородого) не скрывали тонкую шею, казавшиеся полупрозрачными мочки ушей, втянувшиеся от усталости щеки… Неужто хранильнику трудно было выискать лучшего посланца для неблизкой дороги через ночную дебрь?
И снова бросилась в глаза странность ребячьей одежды. Рубаха полотняная, беленая, как у Яромира, только на вороте и у запястий цветная вышивка; поверх рубахи – малоношеная безрукавая душегрейка пушистого лисьего меха (словно бы нарочно выбирали под цвет парнишкиных волос); да еще хазарские штаны из валяной шерсти… Ради собственной одежды Белоконь бы наверняка постыдился отрывать от хозяйства этакий немалый кусок – ведь на безбородом купленном мальчишке надета цена хорошего жеребенка!
Занятый этими мыслями, Кудеслав вздрогнул от неожиданности, когда Яромир коснулся его плеча:
– Пускай спит – намаялся за ночь-то. Этакий путь и дюжему мужику почти через силу, а уж этому… Пойдем на крыльцо, там все расскажу.
Он повернулся и шагнул к двери.
– Хоть полушубок-то на плечи накинь! – тихонько сказала ему вслед женщина.
Старейшина будто и не слыхал.
2
Вопреки опасениям Кудеслава, тронуться в путь удалось еще до полудня. Возможно, удалось бы и раньше, если бы не Велимирова скаредность.
Когда воротившийся от Яромира Мечник скупо, в полтора-два десятка слов рассказал названому родителю про негаданное поручение, тот даже застонал от досады. Следует отдать Велимиру должное – все-таки прежде всего он беспокоился о доставшемся ему в приемыши братовом сыне. Пока женщины, охая и суетясь, кормили Кудеслава, пока тот облачался по-дорожному да выбирал, что из оружия следует взять, Велимир маялся рядом и ворчал на старейшину и Белоконя – чего, дескать, им понадобился именно Мечник? Да, в иных делах Кудеславу нет равных среди родовичей, но только нынешнее дело вроде не из таких! Да, Кудеслав по крупному зверю хорош (куда лучше, чем на пушной охоте), и медведей он брал многажды – без вреда себе, ловко брал, но только есть в общине медвежатники гораздо ловчее. Одно дело, когда тебе зверя вытропили и навзрячь показали; самому же выслеживать Мечнику удается куда хуже, чем многим, которые летами даже младше его. А ведь поручение, данное Кудеславу нынче, как раз из тех, для исполнения которых мало одной сноровки управляться с оружием (тут-то он из молодцов молодец).
Так чего же хранильнику вздумалось звать к себе Кудеслава, а не Ждана или Путяту? Да хоть бы и Велимира позвал – небось не за один только цвет бороды люди еще и Лисовином кличут названого Кудеславова отца.
И Яромир тоже хорош: перечить Белоконю, конечно, всякий остережется, но зачем же было отсылать Мечника одного?
Кудеслав рассеянно кивал, вполуха слушая всю эту воркотню. О хранильниковых догадках, будто объявившийся шатун не простой медведь, Мечник рассказывать Велимиру поопасался. Зачем же волновать прежде времени? Да еще, не дай боги, бабы могут услышать – от одного визгу оглохнешь.
Что же до охотничьей сноровки, то старшему Белоконеву сыну пользы она принесла с синичкино вымя. Потому волхв и зовет Кудеслава, больше надеясь на его редкое в здешних краях воинское умение, а главное – на то, что он сын своего отца. А Ждан, Путята или Велимир… Медвежатники они и впрямь опытные, да только иной раз опыт способен обернуться во вред. Ведь может статься, что донявший волховское подворье медведь в медвежьих повадках понимает хуже, чем иные охотники. Не бывало еще такого, чтоб лесное зверье чинило вред Белоконю и Белоконевым.
Не бывало.
А теперь вот случилось…
Занятый своими мыслями, Кудеслав лишь хмыкнул, когда Велимир перестал наконец ворчать и сказал деловито:
– Ну, ты собирайся, а я покуда схожу, коня тебе оседлаю.
Собственно, сборы получились короткими. Обычная простая одежка; оружие – рогатина, меч, нож, топор, лук да к нему полтора десятка стрел с тяжкими железными жалами… А больше ничего и не надобно. Не съестное же с собою брать – Белоконь до смерти разобидится, если к нему приехать со своим пропитанием.
Как ни быстры получились Кудеславовы сборы, Велимир управился еще быстрее. Выйдя во двор, Мечник увидал, что названый родитель держит под уздцы уже полностью снаряженного в дорогу коня – самого никчемного, заморенного и старого из Велимировых лошадей (а тех у Лисовина, по общинным меркам, очень много: два жеребца и дюжая кобыла-трехлетка).
Выбор лошади был ясен, как солнышко в вешний погожий полдень. Дорога-то хоть и не шибко далека, а все же и не из легких – по нынешней поре конь может изранить ноги льдистой коркой лежалого снега. И день нынче короток: того и гляди вечерние сумерки застанут подорожных в лесу. Мало ли что волки Белоконеву кобылу не тронули! О Белоконевом пускай сам волхв и радеет, а у Велимира своя голова. Ничего, лишней опасности названому сыну от плохого коня не выйдет: даже Мечнику вряд ли придет в голову сунуться на медведя конным.
Однако же в глубине души Велимир сознавал, что поступил не на пользу Кудеславу и просившему подмоги волхву. И еще он сознавал, что хозяйство его по достатку без малого первое в общине во многом благодаря Мечнику: тот ведь из странствий своих много чего привез, а себе оставил только диковинный железный доспех, меч да всякую пустяковину.
Так что Кудеславу стоило лишь пренебрежительно скривить губы, рассматривая подведенного ему чахлого конька, чтобы Велимир, сплюнув, принялся расседлывать.
Кудеслав подхватился, заморгал обалдело – сквозь слипшиеся ресницы лицо разбудившего показалось нечеловеческим, зыбким продолженьем спугнутого сна. Но был это всего-навсего Велимир, отцов брат, который после гибели родителей Кудеслава милосердно принял к себе их единственное малолетнее чадо, а заодно и все оставшееся без хозяев изрядное достоянье.
– Вставай, – буркнул Велимир. – Тебя старейшина к себе кличет.
Он выпустил Кудеславово плечо и отошел от полатей, уронив за собою плотный меховой полог – это чтобы разбуженный мог выбраться из ложа, не смутив наготой случайный взгляд названой матери, названой сестры, жены названого брата или кто там еще из неродных женщин мог оказаться поблизости. Вот так-то: в бороде уже седые волоски появились, а ни семьи своей, ни хозяйства не нажил, и вместо жилья – занавешенный угол в отцовой избе, которая не тебе досталась и твоею никогда не будет. Кого винить? Злую долю-судьбу? Себя? Последнее будет вернее.
Впрочем, Кудеславу было не до тягостных сожалений о собственной неприкаянности. С новой силой ожил страх за старого ведуна: Яромир не станет ради какого-нибудь пустяка тревожить сородича, отдыхающего после ночных трудов на общинное благо. Не из-за Белоконева ли гонца старейшина кличет к себе Мечника Кудеслава?
Быстро оделся; по давней привычке шагу не ступать без оружия заткнул за голенище сапога короткий широкий нож; в тесных полутемных сенях черпнул ковшом из кадки снеговой талой воды, напился, остатки растер по лицу, добивая сонливость…
Снаружи оказалось нерадостно. Бывшее на рассвете ясным да чистым небо заволоклось мглистой пеленой и сеяло ленивый влажный снежок. Оскальзываясь на подтаявшей глине, Кудеслав в полдесятка шагов пересек тесный дворик, махнул через жердяной плетеный забор (изнутри приступка и снаружи приступка – это чтоб не возиться с длинной неуклюжей воротиной, которую отворяют, лишь выезжая со двора телегой либо верхом). Шапку он не надел, полушубка не подпоясал – жилье старейшины от Велимирового через два плетня, так что по дороге вряд ли успеешь озябнуть.
Как и все те, которых родовичи когда-либо удостаивали властвовать над собою, Яромир жил не в своей избе, а в общинной, что окнами глядела на чельную площадь града.
Изба просторная да теплая; крыта она тесом, а не травой, как большинство изб простых общинников. Однако ни двора, ни хлева при ней нет – лишь сарай для двух от общества же выделенных коней. И плетня вокруг нет. Нечего старейшине отгораживаться от рода, как нечего ему тяготиться заботами о собственном хозяйстве. Ему не о своем благополучии надо радеть, а о благополучии всех. Община поставила его над собой, она же и прокормит. Если успел он к своим преклонным годам вырастить сыновей (а иначе бывало редко), так они и сберегут его достояние; если же нет, то ради общинного блага собственным можно и должно пренебрегать.
В собственную избу Яромир сможет вернуться, лишь когда снимет с плеч возложенное родом-племенем бремя. Такое может случиться, не одна лишь смерть способна избавить старейшину от долга перед вверившейся ему общиной. К примеру, Слепый, Яромиров предшественник, доброю волей сложил с себя родовое главенство, почуяв близкое расстройство перенапряженного ума.
Чельная градская площадь еще велика, хоть и теснят ее все сильней плетни да пахнущие свежим смольем стены новых избяных пристроек, – невзирая на многочисленные привычные беды, община растет, семьи множатся, и вскоре граду станет вовсе тесна закута старого тына. Но застраивать площадь нельзя. Это место для летучих сполошных сходов (для обыденных мирных дел общество собирается возле древнего родового дуба, что стоит близ пристани). Здесь под тесовым навесом поставлено вечевое било – пустотелый обрубок огромного липового ствола.
Прежде било стояло на сторожевой вышке. Но в запрошлом году подступившая ко граду мордва вышку спалила – три дня напролет мордовские удальцы метали в нее горящие стрелы и таки подожгли (как все же невелик град: даже хоронясь за деревьями, что с краю поляны, хороший лучник шутя докинет стрелу до самой городской середины). В то же лето затеяли строить новую – чтобы выше прежней да чтобы поджигать было вовсе напрасным занятием, – но по сию пору успели возвести остов всего лишь на три человеческих роста. Видать, не раньше чем годов через пять красоваться граду новой охоронною вышкой… Это если к той поре она здесь еще будет надобна, если уцелеет здесь град и сама община – не от злых врагов уцелеет, а от затей собственной же крови-плоти.
Общинная изба красна да затейлива. На двускатной крыше резной гребень, глядящий на восток и на запад двумя деревянными конскими головами (белый конь – одно из видимых человечьему глазу воплощений превеликого Световита-Светловида). Крыльцо высокое, в пять ступеней, с тесовым навесом на витых столбиках (с этого крыльца старейшина обращается к родовичам, прибежавшим по зову била на сход). Над гладко оструганной дверью резной лик Хорса-Светотворителя; на самой двери бронзовая голова невиданного зверя с кольцом в зубах – долгонько, поди, кочевала по торжищам персидская вещь, прежде чем прижиться в затерявшемся среди бескрайних лесов вятичском граде.
К одному из столбиков крыльца был прислонен веник – перетянутый мочалом пук прошлогодних березовых прутьев. Кудеслав обмахнул им прилипшую на сапоги глину, а может статься, и не только ее (береза – дерево доброе, она пособит стряхнуть и то, что куда хуже уличной грязи). В сумеречных просторных сенях, освещенных лишь затянутым скобленою кожей оконцем, он снял сапоги, оставив нож в голенище, потом нашарил на стене деревянный гвоздь с набалдашником в виде ощеренной кабаньей морды, навесил на него полушубок и лишь затем, крепко стиснув в кулаке подношение, осторожно толкнул дверь, ведущую внутрь.
В общинную избу нельзя врываться наспех, как был на улице, тем более при оружии, если пора мирная, а быть оружным не назначено специальным велением. Потому что посреди избы вспучился кругом дикого камня неугасимый Родовой Очаг – место, над которым незримо и безотлучно витают Навьи и души тех пращуров, кому после смерти назначено блюсти продолжение рода.
Шепча привычные, в плоть, кровь и душу укоренившиеся слова, Кудеслав бросил в Очаг кусочек мяса да клок горностаевой шкурки. Потом, затаив дыхание, проследил: не поникнет ли хоть на миг пламя, не качнется ли к земле прозрачная струйка копоти, завивающаяся под высокую кровлю?
Нет, дурного знамения не случилось.
ОНИ приняли.
Только окончательно уверившись в этом, Кудеслав оборотился туда, где на низких просторных полатях неподвижным истуканом сидел Яромир.
– Здрав будь… – Мечник запнулся, не договоря положенного по обычаю. В неподвижности старейшины чувствовалось что-то принужденное, тревожное. Не случилось ли с ним чего?
– И ты будь, – еле слышно выговорил Яромир – в неверном свете тусклых оконец и очага видно было, как шевельнулась темная борода на обтянутой белым груди.
Старейшина поднялся со скрипнувших полатей и шагнул ближе к.гостю, неслышно ступая босыми ногами по утоптанной до каменной твердости земле. Были на нем лишь рубаха тонкого полотна да такие же штаны; избу же, по всему судя, с утра не топили – вон на стропилинах поверх копоти иней уселся. Кудеслава, одетого не в холстину, а в кожу, и то зазнобило… Да, крепок нынешний старейшина, куда как крепок даже для своих не ахти каких старых лет.
Если бы Кудеслав, вопреки обычаю, все-таки решился подстегнуть Яромирову медлительность нетерпеливым вопросом (чего, мол, ты этак-то: звал, торопил, поспать не дал, а теперь молчишь?), он бы не успел и рта приоткрыть.
Из-за мехового полога, отделявшего женскую половину, вывернулась вдруг которая-то из Яромировых жен: тоже босая и в одной рубахе до пят, но распаренная, красная – видать, только от жаркого очага. В руках у нее исходила крутым мясным паром увесистая глиняная миска. Коротко поклонившись Кудеславу, женщина зашарила растерянным взглядом по избе, словно искала кого-то.
– Назад неси, – вполголоса бросил ей Яромир. – Сморило его. И пускай себе, не буди. Похлебает, когда проснется.
Только теперь Кудеслав заметил, что на полатях близ того места, где давеча сидел старейшина, враскидку спал присланный Белоконем малец (вот, стало быть, откуда недавняя принужденная неподвижность родового главы – небось потревожить боялся).
Несколько мгновений все трое – Кудеслав, Яромир и женщина – глядели на спящего. Давеча у ворот Мечник решил, что мальцу от роду лет тринадцать; теперь же подумалось, будто и того меньше.
Коротко, по-детски стриженные ярко-рыжие волосы (родитель, поди, или еще кто нахлобучил на голову недорослю горшок, наспех отхватил торчащие из-под глиняной закраины патлы – и будет с него, голобородого) не скрывали тонкую шею, казавшиеся полупрозрачными мочки ушей, втянувшиеся от усталости щеки… Неужто хранильнику трудно было выискать лучшего посланца для неблизкой дороги через ночную дебрь?
И снова бросилась в глаза странность ребячьей одежды. Рубаха полотняная, беленая, как у Яромира, только на вороте и у запястий цветная вышивка; поверх рубахи – малоношеная безрукавая душегрейка пушистого лисьего меха (словно бы нарочно выбирали под цвет парнишкиных волос); да еще хазарские штаны из валяной шерсти… Ради собственной одежды Белоконь бы наверняка постыдился отрывать от хозяйства этакий немалый кусок – ведь на безбородом купленном мальчишке надета цена хорошего жеребенка!
Занятый этими мыслями, Кудеслав вздрогнул от неожиданности, когда Яромир коснулся его плеча:
– Пускай спит – намаялся за ночь-то. Этакий путь и дюжему мужику почти через силу, а уж этому… Пойдем на крыльцо, там все расскажу.
Он повернулся и шагнул к двери.
– Хоть полушубок-то на плечи накинь! – тихонько сказала ему вслед женщина.
Старейшина будто и не слыхал.
2
Вопреки опасениям Кудеслава, тронуться в путь удалось еще до полудня. Возможно, удалось бы и раньше, если бы не Велимирова скаредность.
Когда воротившийся от Яромира Мечник скупо, в полтора-два десятка слов рассказал названому родителю про негаданное поручение, тот даже застонал от досады. Следует отдать Велимиру должное – все-таки прежде всего он беспокоился о доставшемся ему в приемыши братовом сыне. Пока женщины, охая и суетясь, кормили Кудеслава, пока тот облачался по-дорожному да выбирал, что из оружия следует взять, Велимир маялся рядом и ворчал на старейшину и Белоконя – чего, дескать, им понадобился именно Мечник? Да, в иных делах Кудеславу нет равных среди родовичей, но только нынешнее дело вроде не из таких! Да, Кудеслав по крупному зверю хорош (куда лучше, чем на пушной охоте), и медведей он брал многажды – без вреда себе, ловко брал, но только есть в общине медвежатники гораздо ловчее. Одно дело, когда тебе зверя вытропили и навзрячь показали; самому же выслеживать Мечнику удается куда хуже, чем многим, которые летами даже младше его. А ведь поручение, данное Кудеславу нынче, как раз из тех, для исполнения которых мало одной сноровки управляться с оружием (тут-то он из молодцов молодец).
Так чего же хранильнику вздумалось звать к себе Кудеслава, а не Ждана или Путяту? Да хоть бы и Велимира позвал – небось не за один только цвет бороды люди еще и Лисовином кличут названого Кудеславова отца.
И Яромир тоже хорош: перечить Белоконю, конечно, всякий остережется, но зачем же было отсылать Мечника одного?
Кудеслав рассеянно кивал, вполуха слушая всю эту воркотню. О хранильниковых догадках, будто объявившийся шатун не простой медведь, Мечник рассказывать Велимиру поопасался. Зачем же волновать прежде времени? Да еще, не дай боги, бабы могут услышать – от одного визгу оглохнешь.
Что же до охотничьей сноровки, то старшему Белоконеву сыну пользы она принесла с синичкино вымя. Потому волхв и зовет Кудеслава, больше надеясь на его редкое в здешних краях воинское умение, а главное – на то, что он сын своего отца. А Ждан, Путята или Велимир… Медвежатники они и впрямь опытные, да только иной раз опыт способен обернуться во вред. Ведь может статься, что донявший волховское подворье медведь в медвежьих повадках понимает хуже, чем иные охотники. Не бывало еще такого, чтоб лесное зверье чинило вред Белоконю и Белоконевым.
Не бывало.
А теперь вот случилось…
Занятый своими мыслями, Кудеслав лишь хмыкнул, когда Велимир перестал наконец ворчать и сказал деловито:
– Ну, ты собирайся, а я покуда схожу, коня тебе оседлаю.
Собственно, сборы получились короткими. Обычная простая одежка; оружие – рогатина, меч, нож, топор, лук да к нему полтора десятка стрел с тяжкими железными жалами… А больше ничего и не надобно. Не съестное же с собою брать – Белоконь до смерти разобидится, если к нему приехать со своим пропитанием.
Как ни быстры получились Кудеславовы сборы, Велимир управился еще быстрее. Выйдя во двор, Мечник увидал, что названый родитель держит под уздцы уже полностью снаряженного в дорогу коня – самого никчемного, заморенного и старого из Велимировых лошадей (а тех у Лисовина, по общинным меркам, очень много: два жеребца и дюжая кобыла-трехлетка).
Выбор лошади был ясен, как солнышко в вешний погожий полдень. Дорога-то хоть и не шибко далека, а все же и не из легких – по нынешней поре конь может изранить ноги льдистой коркой лежалого снега. И день нынче короток: того и гляди вечерние сумерки застанут подорожных в лесу. Мало ли что волки Белоконеву кобылу не тронули! О Белоконевом пускай сам волхв и радеет, а у Велимира своя голова. Ничего, лишней опасности названому сыну от плохого коня не выйдет: даже Мечнику вряд ли придет в голову сунуться на медведя конным.
Однако же в глубине души Велимир сознавал, что поступил не на пользу Кудеславу и просившему подмоги волхву. И еще он сознавал, что хозяйство его по достатку без малого первое в общине во многом благодаря Мечнику: тот ведь из странствий своих много чего привез, а себе оставил только диковинный железный доспех, меч да всякую пустяковину.
Так что Кудеславу стоило лишь пренебрежительно скривить губы, рассматривая подведенного ему чахлого конька, чтобы Велимир, сплюнув, принялся расседлывать.