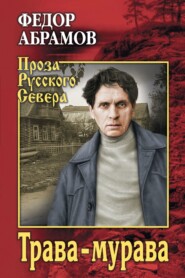По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
О войне и победе
Год написания книги
2015
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Противогаз? Наверно, в редакции оставил.
– Придется вернуться, – сказал Анохин.
– Ерунда, – отмахнулся Александр Дмитриевич. По правде сказать, он был даже рад, что оставил эту проклятую сумку. Кому не надоела она за войну?
Но Анохин возразил:
– Нельзя, товарищ Сойманов. Насчет ношения противогаза есть специальный приказ. – Он назвал номер приказа. – И ежели мы, политработники, будем нарушать приказ, то какой же пример бойцам покажем?
4
Дорога на передовую… Самая унылая дорога на свете. И, быть может, самая короткая из твоих дорог. Вот бредешь ты по рытвинам, по ухабам, воюешь с непослушными, отяжелевшими ногами – и они понимают, куда идут, а панихида тебе уже обеспечена заживо. Вот она – воет снарядом над головой, минным свистом и визгом сверлит в ушах. И где, когда, на каком метре оборвется твоя жизнь?
Скулит, хватает за рваный подол шинели поземка, наезжают машины и повозки, и оттуда с передовой и туда на передовую, с ранеными, со снарядами, оледенелые сапоги жалуются дороге на свое житье. А Анохин все прет и прет. Прет без устали, без передышки, как ишак. И весь, как ишак, обвешан сумками: сумка с противогазом, сумка со свежими газетами, сумка командирская, из грубой кирзы, тоже набитая до отказа.
Нет, Александр Дмитриевич не новичок на войне. Пороха понюхал – с июля месяца, считай, с самого начала войны в народном ополчении. Был на фронте, был на курсах младших политруков, был в госпитале, в батальоне выздоравливающих и всяких, всяких людей навидался за эти пять месяцев. Но с таким вот двужильным и сознательным трудягой его судьба, пожалуй, свела впервые.
Когда возле свежей воронки, вырытой снарядом у самой дороги, им попалась разбитая повозка (попадались они и раньше – и повозки, и машины), Анохин остановился, обратил его внимание на винтовку, валявшуюся возле колеса. Затем поднял ее, проверил затвор – работает – и покачал головой.
– Вот до чего дошло, товарищ Сойманов. Оружие боевое бросаем. Забыли, как летом нас с этими винтовками прижимало.
Да, Анохин был прав. Уж кто-кто, а он-то, Александр Дмитриевич, запомнил те денечки. Под Кингисеппом, когда их студенческая рота первый раз вступила в бой с немцами, он лежал под пулеметным огнем с одной бутылкой горючей смеси в руке и ждал, ждал, когда убьют товарища, чтобы взять его винтовку. Товарища, с которым он четыре года спал в общежитии койка к койке, тумбочка к тумбочке.
Но что сделал затем Анохин? Анохин деловито закинул винтовку за плечо и понес на передовую.
Впрочем, когда они вступили в узкую лощину с чахлыми кустиками ивняка по краям, Александр Дмитриевич и сам взвалил на себя винтовку (он подобрал ее возле убитого бойца). Но взвалил, конечно, отнюдь не из соображений хозяйственной озабоченности. Кругом все гремит, грохочет, пули свистят над головой, а у тебя всего-навсего игрушечный пистолет. Ну как тут не ухватиться за винтовку!
Зимы в лощине нет. Зима не успевает засыпать лощину снегом. Валяются убитые, раненые.
– Долиной смерти идем, – пояснил Анохин. – Но главные бои там, – он указал на опушку леса на горизонте. – За противотанковый ров. А это подход – и он, гад, день и ночь лупит. Много тут народушку полегло.
Из-за поворота показались раненые. Трое. Бредут след в след. Первый в валенках, и, несмотря на грохот кругом, было слышно, как под ногами его чавкает черное крошево.
– Ну как, товарищи, – спросил бодрым голосом Анохин, – всыпали немцу?
– Ему всыплешь. Он, сволочь, во рву окопался, а ты на брюхе к нему по голому болоту: каждая кочка срыта…
Анохин достал из сумки газету.
– Вот, товарищи, наша боевая армейская. Свежая.
– Эх, – вздохнул раненый в валенках. – Бумажка-то свежая, да что в нее завернуть? – И он с намеком посмотрел на Александра Дмитриевича.
Александр Дмитриевич вынул изо рта окурок. Это было последнее, что осталось у него от двух заверток, отсыпанных ему бойцами заградотряда.
– Да, – сказал мрачно второй раненый. – Думал, хоть на передовой накурюсь досыта да нажрусь. Хрена с два! По сухарю мерзлому в зубы воткнули – штурмуй немца.
– Ты из какой части? – вдруг строгим, не своим голосом спросил Анохин. – Откуда у тебя эти разговорчики?
– Да я что, товарищ командир… Я ведь это к примеру…
– Ладно, иди, – сказал Анохин. – Да когда до госпиталя доберешься, почитай нашу армейскую. Там все объяснено насчет положения.
А когда раненые остались позади, Анохин, все еще хмурясь, сказал:
– Политико-воспитательная работа у Андронова хромает. Надо будет подсказать.
Кустики – все-таки защита – кончились. На мгновенье Александр Дмитриевич увидел черную, распаханную войной равнину, белое пятно зимнего леса, опаленного красными вспышками. Разорвавшаяся вблизи мина засыпала его землей. Пригибаясь, тяжело дыша, он нырнул вслед за Анохиным в траншею.
Рядом с этой траншеей была еще траншея, потом траншеи соединились вместе, потом распались на бесконечное множество разных ходов сообщений. Но Анохин шел уверенно. Он тут был свой человек. И среди бойцов и командиров, которые попадались им навстречу, у него оказалось немало знакомых.
– А, товарищ младший политрук, опять к нам со своим бумажным войском!
– А центральных газеток нету?
– А правда это, нет, говорят, зоосад бомбой накрыло и все звери разбежались? Льва на Невском видели?
– А как насчет хлебной прибавки в городе? Всё сто двадцать пять?
В узком проходе, у землянки, где раненым оказывали первую помощь, они натолкнулись на фотографа армейской газеты – худющего небритого еврея в очках.
Фотографу не удавалось сделать нужный снимок. Он хотел, чтобы раненые улыбались, а те не улыбались.
– Товарищ Кац, да что вы ерундой занимаетесь! – сердито кричала ему маленькая санитарка.
– Надо, надо, Марусенька. Понимаете – надо.
– Да как же им улыбаться!
– Ну, это же очень просто. – И далее Кац показал, как надо улыбаться. Он медленно приподнял свою вздрагивающую голову и разлепил посинелые губы. Получился жуткий оскал живого мертвеца.
– Ну, это уже черт знает что, – сказал Александр Дмитриевич, когда они отошли от землянки. – Вы хоть бы ему сказали.
– Нет, товарищ Сойманов, – убежденно возразил Анохин, – правильно делает Кац. Нельзя давать пищу врагу.
– Да при чем тут враг?
– А как же. Гитлер да Геббельс колченогий и так на весь мир кричат: вот, мол, Ленинград при последнем издыхании. А мы, выходит, сами материальчик им в лапы. Нельзя.
Спорить с Анохиным было бесполезно. Анохин все соизмерял самыми высокими категориями.
Горюнова, командира батальона, они нашли на КП. И тут Александр Дмитриевич первый раз увидел, как руководят боем. Раньше он был убежден: война это сплошная неразбериха, сплошной хаос, которым невозможно управлять. А все эти умные писания насчет мудрых военачальников создаются потом, задним числом, когда отгремят пушки. По крайней мере, за все то время, что он был в народном ополчении, ему ни разу не довелось ни на себе, ни на своих товарищах ощутить направляющую руку сверху. Бег по болотам, по лесам, подрыв на собственных минах, вечный страх оказаться в окружении…
А вот тут было совсем другое. Вздрагивало перекрытие над головой, сыпался песок с потолка, бухали взрывы, а Горюнов кричал в трубку:
– Третий, третий! Где твои трактористы? Заснули? Что? Да, да, сейчас, сию минуту… Пятый? Трофимов, сукин сын? Я тебе что говорил? Лупи из всех зажигалок. Понял?
И еще и еще приказы в таком же духе.
– Придется вернуться, – сказал Анохин.
– Ерунда, – отмахнулся Александр Дмитриевич. По правде сказать, он был даже рад, что оставил эту проклятую сумку. Кому не надоела она за войну?
Но Анохин возразил:
– Нельзя, товарищ Сойманов. Насчет ношения противогаза есть специальный приказ. – Он назвал номер приказа. – И ежели мы, политработники, будем нарушать приказ, то какой же пример бойцам покажем?
4
Дорога на передовую… Самая унылая дорога на свете. И, быть может, самая короткая из твоих дорог. Вот бредешь ты по рытвинам, по ухабам, воюешь с непослушными, отяжелевшими ногами – и они понимают, куда идут, а панихида тебе уже обеспечена заживо. Вот она – воет снарядом над головой, минным свистом и визгом сверлит в ушах. И где, когда, на каком метре оборвется твоя жизнь?
Скулит, хватает за рваный подол шинели поземка, наезжают машины и повозки, и оттуда с передовой и туда на передовую, с ранеными, со снарядами, оледенелые сапоги жалуются дороге на свое житье. А Анохин все прет и прет. Прет без устали, без передышки, как ишак. И весь, как ишак, обвешан сумками: сумка с противогазом, сумка со свежими газетами, сумка командирская, из грубой кирзы, тоже набитая до отказа.
Нет, Александр Дмитриевич не новичок на войне. Пороха понюхал – с июля месяца, считай, с самого начала войны в народном ополчении. Был на фронте, был на курсах младших политруков, был в госпитале, в батальоне выздоравливающих и всяких, всяких людей навидался за эти пять месяцев. Но с таким вот двужильным и сознательным трудягой его судьба, пожалуй, свела впервые.
Когда возле свежей воронки, вырытой снарядом у самой дороги, им попалась разбитая повозка (попадались они и раньше – и повозки, и машины), Анохин остановился, обратил его внимание на винтовку, валявшуюся возле колеса. Затем поднял ее, проверил затвор – работает – и покачал головой.
– Вот до чего дошло, товарищ Сойманов. Оружие боевое бросаем. Забыли, как летом нас с этими винтовками прижимало.
Да, Анохин был прав. Уж кто-кто, а он-то, Александр Дмитриевич, запомнил те денечки. Под Кингисеппом, когда их студенческая рота первый раз вступила в бой с немцами, он лежал под пулеметным огнем с одной бутылкой горючей смеси в руке и ждал, ждал, когда убьют товарища, чтобы взять его винтовку. Товарища, с которым он четыре года спал в общежитии койка к койке, тумбочка к тумбочке.
Но что сделал затем Анохин? Анохин деловито закинул винтовку за плечо и понес на передовую.
Впрочем, когда они вступили в узкую лощину с чахлыми кустиками ивняка по краям, Александр Дмитриевич и сам взвалил на себя винтовку (он подобрал ее возле убитого бойца). Но взвалил, конечно, отнюдь не из соображений хозяйственной озабоченности. Кругом все гремит, грохочет, пули свистят над головой, а у тебя всего-навсего игрушечный пистолет. Ну как тут не ухватиться за винтовку!
Зимы в лощине нет. Зима не успевает засыпать лощину снегом. Валяются убитые, раненые.
– Долиной смерти идем, – пояснил Анохин. – Но главные бои там, – он указал на опушку леса на горизонте. – За противотанковый ров. А это подход – и он, гад, день и ночь лупит. Много тут народушку полегло.
Из-за поворота показались раненые. Трое. Бредут след в след. Первый в валенках, и, несмотря на грохот кругом, было слышно, как под ногами его чавкает черное крошево.
– Ну как, товарищи, – спросил бодрым голосом Анохин, – всыпали немцу?
– Ему всыплешь. Он, сволочь, во рву окопался, а ты на брюхе к нему по голому болоту: каждая кочка срыта…
Анохин достал из сумки газету.
– Вот, товарищи, наша боевая армейская. Свежая.
– Эх, – вздохнул раненый в валенках. – Бумажка-то свежая, да что в нее завернуть? – И он с намеком посмотрел на Александра Дмитриевича.
Александр Дмитриевич вынул изо рта окурок. Это было последнее, что осталось у него от двух заверток, отсыпанных ему бойцами заградотряда.
– Да, – сказал мрачно второй раненый. – Думал, хоть на передовой накурюсь досыта да нажрусь. Хрена с два! По сухарю мерзлому в зубы воткнули – штурмуй немца.
– Ты из какой части? – вдруг строгим, не своим голосом спросил Анохин. – Откуда у тебя эти разговорчики?
– Да я что, товарищ командир… Я ведь это к примеру…
– Ладно, иди, – сказал Анохин. – Да когда до госпиталя доберешься, почитай нашу армейскую. Там все объяснено насчет положения.
А когда раненые остались позади, Анохин, все еще хмурясь, сказал:
– Политико-воспитательная работа у Андронова хромает. Надо будет подсказать.
Кустики – все-таки защита – кончились. На мгновенье Александр Дмитриевич увидел черную, распаханную войной равнину, белое пятно зимнего леса, опаленного красными вспышками. Разорвавшаяся вблизи мина засыпала его землей. Пригибаясь, тяжело дыша, он нырнул вслед за Анохиным в траншею.
Рядом с этой траншеей была еще траншея, потом траншеи соединились вместе, потом распались на бесконечное множество разных ходов сообщений. Но Анохин шел уверенно. Он тут был свой человек. И среди бойцов и командиров, которые попадались им навстречу, у него оказалось немало знакомых.
– А, товарищ младший политрук, опять к нам со своим бумажным войском!
– А центральных газеток нету?
– А правда это, нет, говорят, зоосад бомбой накрыло и все звери разбежались? Льва на Невском видели?
– А как насчет хлебной прибавки в городе? Всё сто двадцать пять?
В узком проходе, у землянки, где раненым оказывали первую помощь, они натолкнулись на фотографа армейской газеты – худющего небритого еврея в очках.
Фотографу не удавалось сделать нужный снимок. Он хотел, чтобы раненые улыбались, а те не улыбались.
– Товарищ Кац, да что вы ерундой занимаетесь! – сердито кричала ему маленькая санитарка.
– Надо, надо, Марусенька. Понимаете – надо.
– Да как же им улыбаться!
– Ну, это же очень просто. – И далее Кац показал, как надо улыбаться. Он медленно приподнял свою вздрагивающую голову и разлепил посинелые губы. Получился жуткий оскал живого мертвеца.
– Ну, это уже черт знает что, – сказал Александр Дмитриевич, когда они отошли от землянки. – Вы хоть бы ему сказали.
– Нет, товарищ Сойманов, – убежденно возразил Анохин, – правильно делает Кац. Нельзя давать пищу врагу.
– Да при чем тут враг?
– А как же. Гитлер да Геббельс колченогий и так на весь мир кричат: вот, мол, Ленинград при последнем издыхании. А мы, выходит, сами материальчик им в лапы. Нельзя.
Спорить с Анохиным было бесполезно. Анохин все соизмерял самыми высокими категориями.
Горюнова, командира батальона, они нашли на КП. И тут Александр Дмитриевич первый раз увидел, как руководят боем. Раньше он был убежден: война это сплошная неразбериха, сплошной хаос, которым невозможно управлять. А все эти умные писания насчет мудрых военачальников создаются потом, задним числом, когда отгремят пушки. По крайней мере, за все то время, что он был в народном ополчении, ему ни разу не довелось ни на себе, ни на своих товарищах ощутить направляющую руку сверху. Бег по болотам, по лесам, подрыв на собственных минах, вечный страх оказаться в окружении…
А вот тут было совсем другое. Вздрагивало перекрытие над головой, сыпался песок с потолка, бухали взрывы, а Горюнов кричал в трубку:
– Третий, третий! Где твои трактористы? Заснули? Что? Да, да, сейчас, сию минуту… Пятый? Трофимов, сукин сын? Я тебе что говорил? Лупи из всех зажигалок. Понял?
И еще и еще приказы в таком же духе.