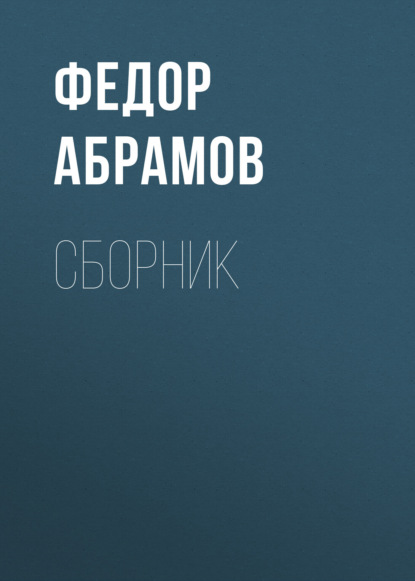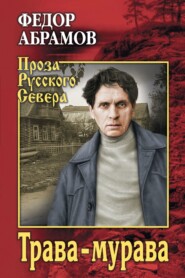По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ф. А. Абрамов. Сборник
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Новожилов спрашивал о готовности к севу, требовал немедленного выезда в поле, интересовался настроением людей, запасами хлеба в колхозе. Она что-то отвечала, кричала в трубку, когда он переспрашивал, – как в тумане…
После разговора с секретарем самые противоположные чувства охватили Анфису. Это был первый человек, с которым она говорила как председатель. Ей было радостно, что секретарь райкома так просто и приветливо разговаривал с нею, и в то же время страх подкатывал: только теперь она поняла, всем сердцем почувствовала, какой груз взвалили ей на плечи. С этого дня она, малограмотная баба, в ответе за весь колхоз, за целую деревню…
Занятая этими мыслями, она и не слышала, как в контору вошел Федор Капитонович.
– Вот как мы, уже хлопочем! – радостно заговорил он с порога, поощряя ее усердие всем своим видом.
Федор Капитонович был в праздничном пиджаке, в кожаной фуражке, которую он обычно надевал в торжественных случаях, в добротных сапогах, жирно смазанных дегтем. Его маленькое сморщенное личико, обметанное реденькой колючей щетиной, неподдельно сияло.
«Чего это он сегодня? Радость какая?» – подумала Анфиса.
Поздоровавшись за руку – и это тоже удивило ее, – он степенно сел на деревянный некрашеный диван, снял фуражку.
– Ну, слава богу, и у нас как у людей… – Федор Капитонович достал пестрый платок, вытер лысину. – Я уж говорю бабе своей: вот, Матрена, и мы дождались праздника! А то ведь с этим Харитошкой беда! Истинно сказали вчера колхозники: пустил бы по миру и глазом не моргнул…
Анфисе ли было выгораживать Лихачева, но слова Федора Капитоновича покоробили ее.
– А пустой и был человек… – продолжал Федор Капитонович. – Жалеть нечего. У самого царя в голове нету – хоть бы умных людей слушал…
– Ну тебя-то он слушал – грех обижаться.
– Да ведь как слушал? Я ему, бывало, так и эдак. А он все свое… Знамя? Да ты сперва о колхозе радей! – вознегодовал Федор Капитонович. – А знамя что – не уйдет, по заслугам и награда…
Успокаиваясь, он вынул кисет, свернул цигарку, выбил кресалом искру. Едуче запахло самосадом. Анфису всю так и передернуло, но она сдержалась.
Федор Капитонович затянулся, пошарил глазами по столу, по подоконнику и, не найдя посудины, стряхнул пепел на ладонь. Вместе с пеплом от цигарки отвалился красный уголек, но рука Федора Капитоновича даже не дрогнула. Это так удивило Анфису, что она невольно и с каким-то безотчетным страхом взглянула ему в лицо. Сквозь волны сизого дыма на нее по-прежнему ласково и умиленно смотрели маленькие слезливые глазки. Тогда она снова перевела взгляд на руку. Большущий, согнутый, как крюк, палец, дожелта прокуренный. Потом она разглядела и всю руку – каменно-тяжелую, жилистую, с задубевшей кожей на ладони.
«О господи, вот дак ручища», – подумала Анфиса, окидывая глазами щуплую фигуру Федора Капитоновича.
Оправившись от изумления, она спросила:
– Когда думаешь в поле выезжать?
– Да ведь когда… Ежели, скажем, к примеру…
– На Широком холму обсохло. Начинать надо.
Федор Капитонович внимательно посмотрел на нее и вдруг с готовностью воскликнул:
– Это уж беспременно! Я завтра пробный выезд хочу сделать. С тем и пришел…
– Вот и ладно, – сразу подобрела Анфиса, а про себя подумала: «Может, и зря о нем худо думаю?»
И Федор Капитонович, словно желая рассеять остатки ее сомнений, строго добавил:
– Да ведь как же! Война – понимать надо!
Потом, зажимая в руке окурок, глянул под стол:
– Смотрю, в башмаках. От форсу аль по нужде?
– Какое от форсу… – застеснялась Анфиса, подбирая ноги. – У старых сапожонок союзки обносились. Уже теленка сдам – дадут кожи…
– Да ведь теленка когда сдашь, а без сапог… Оно, конечно, председательская работа чистая, а все же разъезды, то, се. Нет, председателю беспременно сапоги надо! – убежденно сказал Федор Капитонович.
Лицо его вдруг приняло озабоченное выражение.
– Что же нам с тобой делать-то, Петровна, а? Разве что… – начал размышлять он вслух. – Ну да! Ты вот что, приноси свои сапожонки. У меня где-то союзки валялись. Ночь посижу, к утру сработаю.
– Что ты, Федор Капитонович, я уж как-нибудь выкручусь. А союзки тебе самому сгодятся…
– И не говори, и слушать не хочу! – рассердился Федор Капитонович. Плачь, да выручай. На этом свет держится. Об этом и партия учит…
Растроганная до глубины души, Анфиса не знала, как и благодарить:
– Ну спасибо тебе, Федор Капитонович. Ты меня так… так выручишь… Там и союзки-то небольшие надо. А я уж тебе, теленка вот сдам…
– Пустое говоришь, – опять строго оборвал Федор Капитонович. Затем, почесав затылок, как бы между прочим, добавил: – А ты мне хоть пудишко на первый случай… Больше не прошу… Сам знаю – война…
Анфиса непонимающе уставилась на него.
– Мучки, говорю, со склада. До краю дожил. – И, видя, что председатель растерянно шарит по столу руками, Федор Капитонович подсунул ей бог знает откуда взявшийся листок бумаги. – Не ищи, знаю, что дела еще не приняла…
– Да я не знаю… – замялась Анфиса. – Муки на складе званье одно… А ты хозяин исправный, – она натужно улыбнулась, – проживешь…
– Эка ты, – недовольно поморщился Федор Капитонович. – По моим сусекам не мела… Да я что, задаром? Нет, ты мне в счет трудодней, по всем законам. Опять же – как на вчерашнем собранье постановлено? Забыла? Нет, Петровна, – внушительно поднял палец Федор Капитонович. – Супротив народа не советую. Харитон супротивничал – знаешь, что вышло?
Кровь бросилась в лицо Анфисе. Она немигающими глазами смотрела на этот желтый не сгибающийся, как крюк, палец, и вдруг страшная догадка озарила ее.
– Да ведь ты… – прерывисто задышала она. – Ты… что же это?.. Сапогами хотел купить? Люди с голоду пухнут, а ты… – Ей не хватало воздуха.
Федор Капитонович поджал губы, встал.
– Голова-то думать дадена, а не то чтобы всякое пустое, – строго и назидательно сказал он и, всем своим видом показывая, до какой степени он оскорблен, пошел к двери.
– Анфиса, Анфиса! – в контору, едва не сбив с ног Федора Капитоновича, вбежала растрепанная, насмерть перепуганная доярка Марья. – Корова подыхает…
– Что?..
– Корова, говорю, подыхает… Да иди ты, бога ради…
Марья, всхлипывая, схватила Анфису за рукав, потянула из-за стола.
Глава восьмая
Лукашин был страшно зол. Хозяйка (он-таки не избежал участи всех командировочных – остановился у Марины-стрелехи) разбудила в восьмом часу. Пожалела. Этака дубина стоеросова!..
Утро было холодное, ветреное. Из труб валил дым, зябко прижимался к тесовым, белым от инея крышам. Сапоги, как колодки, стучали по еще не оттаявшей с ночи дороге. Навстречу ему попадались школьники, останавливались, молча провожали его не по-детски серьезными, вопрошающими глазами.
После разговора с секретарем самые противоположные чувства охватили Анфису. Это был первый человек, с которым она говорила как председатель. Ей было радостно, что секретарь райкома так просто и приветливо разговаривал с нею, и в то же время страх подкатывал: только теперь она поняла, всем сердцем почувствовала, какой груз взвалили ей на плечи. С этого дня она, малограмотная баба, в ответе за весь колхоз, за целую деревню…
Занятая этими мыслями, она и не слышала, как в контору вошел Федор Капитонович.
– Вот как мы, уже хлопочем! – радостно заговорил он с порога, поощряя ее усердие всем своим видом.
Федор Капитонович был в праздничном пиджаке, в кожаной фуражке, которую он обычно надевал в торжественных случаях, в добротных сапогах, жирно смазанных дегтем. Его маленькое сморщенное личико, обметанное реденькой колючей щетиной, неподдельно сияло.
«Чего это он сегодня? Радость какая?» – подумала Анфиса.
Поздоровавшись за руку – и это тоже удивило ее, – он степенно сел на деревянный некрашеный диван, снял фуражку.
– Ну, слава богу, и у нас как у людей… – Федор Капитонович достал пестрый платок, вытер лысину. – Я уж говорю бабе своей: вот, Матрена, и мы дождались праздника! А то ведь с этим Харитошкой беда! Истинно сказали вчера колхозники: пустил бы по миру и глазом не моргнул…
Анфисе ли было выгораживать Лихачева, но слова Федора Капитоновича покоробили ее.
– А пустой и был человек… – продолжал Федор Капитонович. – Жалеть нечего. У самого царя в голове нету – хоть бы умных людей слушал…
– Ну тебя-то он слушал – грех обижаться.
– Да ведь как слушал? Я ему, бывало, так и эдак. А он все свое… Знамя? Да ты сперва о колхозе радей! – вознегодовал Федор Капитонович. – А знамя что – не уйдет, по заслугам и награда…
Успокаиваясь, он вынул кисет, свернул цигарку, выбил кресалом искру. Едуче запахло самосадом. Анфису всю так и передернуло, но она сдержалась.
Федор Капитонович затянулся, пошарил глазами по столу, по подоконнику и, не найдя посудины, стряхнул пепел на ладонь. Вместе с пеплом от цигарки отвалился красный уголек, но рука Федора Капитоновича даже не дрогнула. Это так удивило Анфису, что она невольно и с каким-то безотчетным страхом взглянула ему в лицо. Сквозь волны сизого дыма на нее по-прежнему ласково и умиленно смотрели маленькие слезливые глазки. Тогда она снова перевела взгляд на руку. Большущий, согнутый, как крюк, палец, дожелта прокуренный. Потом она разглядела и всю руку – каменно-тяжелую, жилистую, с задубевшей кожей на ладони.
«О господи, вот дак ручища», – подумала Анфиса, окидывая глазами щуплую фигуру Федора Капитоновича.
Оправившись от изумления, она спросила:
– Когда думаешь в поле выезжать?
– Да ведь когда… Ежели, скажем, к примеру…
– На Широком холму обсохло. Начинать надо.
Федор Капитонович внимательно посмотрел на нее и вдруг с готовностью воскликнул:
– Это уж беспременно! Я завтра пробный выезд хочу сделать. С тем и пришел…
– Вот и ладно, – сразу подобрела Анфиса, а про себя подумала: «Может, и зря о нем худо думаю?»
И Федор Капитонович, словно желая рассеять остатки ее сомнений, строго добавил:
– Да ведь как же! Война – понимать надо!
Потом, зажимая в руке окурок, глянул под стол:
– Смотрю, в башмаках. От форсу аль по нужде?
– Какое от форсу… – застеснялась Анфиса, подбирая ноги. – У старых сапожонок союзки обносились. Уже теленка сдам – дадут кожи…
– Да ведь теленка когда сдашь, а без сапог… Оно, конечно, председательская работа чистая, а все же разъезды, то, се. Нет, председателю беспременно сапоги надо! – убежденно сказал Федор Капитонович.
Лицо его вдруг приняло озабоченное выражение.
– Что же нам с тобой делать-то, Петровна, а? Разве что… – начал размышлять он вслух. – Ну да! Ты вот что, приноси свои сапожонки. У меня где-то союзки валялись. Ночь посижу, к утру сработаю.
– Что ты, Федор Капитонович, я уж как-нибудь выкручусь. А союзки тебе самому сгодятся…
– И не говори, и слушать не хочу! – рассердился Федор Капитонович. Плачь, да выручай. На этом свет держится. Об этом и партия учит…
Растроганная до глубины души, Анфиса не знала, как и благодарить:
– Ну спасибо тебе, Федор Капитонович. Ты меня так… так выручишь… Там и союзки-то небольшие надо. А я уж тебе, теленка вот сдам…
– Пустое говоришь, – опять строго оборвал Федор Капитонович. Затем, почесав затылок, как бы между прочим, добавил: – А ты мне хоть пудишко на первый случай… Больше не прошу… Сам знаю – война…
Анфиса непонимающе уставилась на него.
– Мучки, говорю, со склада. До краю дожил. – И, видя, что председатель растерянно шарит по столу руками, Федор Капитонович подсунул ей бог знает откуда взявшийся листок бумаги. – Не ищи, знаю, что дела еще не приняла…
– Да я не знаю… – замялась Анфиса. – Муки на складе званье одно… А ты хозяин исправный, – она натужно улыбнулась, – проживешь…
– Эка ты, – недовольно поморщился Федор Капитонович. – По моим сусекам не мела… Да я что, задаром? Нет, ты мне в счет трудодней, по всем законам. Опять же – как на вчерашнем собранье постановлено? Забыла? Нет, Петровна, – внушительно поднял палец Федор Капитонович. – Супротив народа не советую. Харитон супротивничал – знаешь, что вышло?
Кровь бросилась в лицо Анфисе. Она немигающими глазами смотрела на этот желтый не сгибающийся, как крюк, палец, и вдруг страшная догадка озарила ее.
– Да ведь ты… – прерывисто задышала она. – Ты… что же это?.. Сапогами хотел купить? Люди с голоду пухнут, а ты… – Ей не хватало воздуха.
Федор Капитонович поджал губы, встал.
– Голова-то думать дадена, а не то чтобы всякое пустое, – строго и назидательно сказал он и, всем своим видом показывая, до какой степени он оскорблен, пошел к двери.
– Анфиса, Анфиса! – в контору, едва не сбив с ног Федора Капитоновича, вбежала растрепанная, насмерть перепуганная доярка Марья. – Корова подыхает…
– Что?..
– Корова, говорю, подыхает… Да иди ты, бога ради…
Марья, всхлипывая, схватила Анфису за рукав, потянула из-за стола.
Глава восьмая
Лукашин был страшно зол. Хозяйка (он-таки не избежал участи всех командировочных – остановился у Марины-стрелехи) разбудила в восьмом часу. Пожалела. Этака дубина стоеросова!..
Утро было холодное, ветреное. Из труб валил дым, зябко прижимался к тесовым, белым от инея крышам. Сапоги, как колодки, стучали по еще не оттаявшей с ночи дороге. Навстречу ему попадались школьники, останавливались, молча провожали его не по-детски серьезными, вопрошающими глазами.