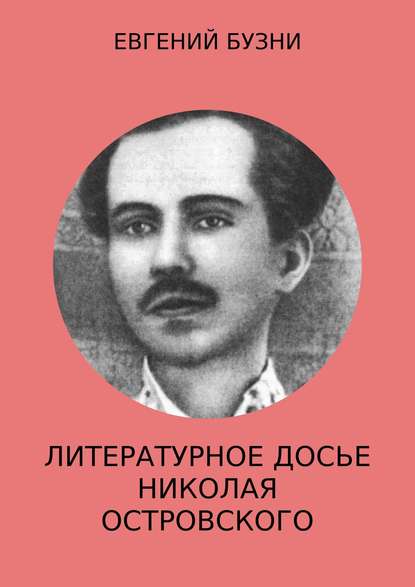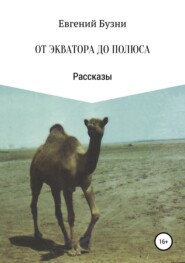По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Литературное досье Николая Островского
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сейчас я в тёмных очках всё время Подумай, Петя, как тяжело мне не читать. Комвуз мой пропал, я заявил о невозможности из-за слепоты продолжать учиться и вообще не знаю, если не удастся возвратить глаз, хоть один, к действию, то мне придётся решать весьма тяжёлые вопросы. Для чего тогда жить? Я, как большевик, должен буду вынести решение о расстреле <…> организма, сдавшего все позиции и ставшего совершенно не нужным никому, ни обществу, а тем самым и мне <…>. Эти клетки животные не хотят работать, и я их ненавижу. Мне по своему существу нужны железные, непортящиеся клетки, а не такая сволочь. Мне врачи обещают, сделав операцию левого глаза, вернуть ему то количество зрения, какое необходимо для чтения. Но я ненавижу врачей – ни одного из них не считаю способным на истинное искусство – портачи.
И вот в период такого тупика я ещё вошёл с головой в борьбу. Ты знаешь, в нашей партии стал опасностью правый уклон – сдача непримиримых большевистских принципов – отход к буржуазии. Никакому гаду и гадам ленинских заветов не позволим ломать, и если бы у меня <были> силы, то я бы работал и боролся, а то только нудное писание да мучение. Зажирели некоторые типы. Подхалимов полно, надо стряхнуть все наросты, больше рабочих свежих сил, крепче семья пролетариев-большевиков. Много бы я тебе рассказал, но нет сил".
Вот такое удивительное по силе духа письмо, в котором хоть и говорится о возможном расстреле организма, но тут же об этом забывается, а вспоминается борьба за торжество большевистских принципов. В этом письме несколько удивляет одна деталь. Островский мимоходом упоминает: "В 1920 году мне осколком разбило череп над правой бровью и повредило глаз, но он видел всё же на
/
". Дело в том, что такую деталь, как ранение в голову (впрочем, Островский не говорит о том, что голова повреждена была осколком снаряда) не упоминается почему-то ни соучениками, ни учительским составом, ни даже матерью Ольгой Осиповной. Вспоминает, правда о шраме Пётр Новиков, когда пишет о своей первой встрече с Николаем Островским на железнодорожном вокзале. Эпизод знакомства даётся им в литературном плане:
"В январе 1921 года я ехал в свою воинскую часть. В Киеве предстояла пересадка. На вокзале была невообразимая сутолока. В поисках места в зале пришлось пробиваться через баррикады из мешков и корзин. На одном из массивных диванов было чуть посвободнее. С края сидел паренёк в солдатской шинели. Я попросил его подвинуться и кое-как примостился.
– Откуда ты? Куда едешь? – сразу спросил он.
Я ответил шуткой:
– Это военная тайна. Да и кто поручится, что ты не Зелёный или не Нестор Махно?
– Тогда познакомимся: Николай Островский. Комсомолец. О Зелёном слышал., о батьке Махно тоже, но на них не похож – по годам не дорос.
– А это у тебя откуда? – спросил я, указывая на шрам, синевший над правым глазом.
– Был в Первой Конной. Ранило осколком в голову и вот сюда в живот. Долго лежал в госпитале. Думали, умру. Но, как видишь, живой. Сейчас еду на побывку домой, в Шепетовку…"
Читая эти строки, трудно отделаться от мысли о надуманности этих воспоминаний. Я уж не говорю о том, что вспомнить разговор с кем-то через сорок с лишним лет (воспоминания датируются 1969 г.) практически невозможно. Но, во-первых, в январе 1921 г. Николай, скорее всего, посещал занятия единой трудовой школы в Шепетовке. В архивах имеется фотография выпускников этой школы с Николаем Островским на ней, выполненная летом 1921 г. Шрама над бровью Николая на ней не видно. Разумеется, с течением времени шрам мог стать почти незаметным. Сам Островский упоминает об осколочной травме головы, происшедшей в 1920 г., не упоминая, осколком чего был ранен. Можно предположить, что Пётр Новиков в своих воспоминаниях, как и многие другие, руководствовался страницами романа, где, правда, тоже говорилось о ранении в августе 1920 г.
В девятой главе первой части романа рассказывается о ранении Корчагина и о том, как он попал в госпиталь на лечение. Врач делает записи в тетрадь. В одной из них от 27 августа мы читаем:
"Сегодня осматривали рану Корчагина. Она очень глубока, пробита черепная коробка, от этого парализована вся правая сторона головы. В правом глазу кровоизлияние. Глаз вздулся".
Если бы у Островского было аналогичное ранение, то след на голове остался бы весьма заметный. Однако ни на одной прижизненной фотографии Островского я лично шрамов разглядеть не смог. Нет упоминания о шраме на голове и в медицинском заключении, составленном врачами после смерти писателя. Хотя, конечно, это могли быть чисто технические недочёты. Ведь и качество фотографий в то время оставляло желать лучшего. Но во время одной из конференций, посвящённых памяти Николая Островского и проходивших в Шепетовке, в работе которой принимал участие и Пётр Новиков, я спросил друга Островского, помнит ли он шрам на лбу Островского, на что получил уклончивый ответ, что точно сказать он не может, был ли такой шрам. Да и все, кто оставили свои воспоминания о Николае Островском, если говорили о внешности, то, прежде всего, о том, что видели большой выпуклый лоб и красивые глаза. Только Иннокентий Феденёв, как и Новиков, пишет о шраме над правым глазом.
Это, конечно, загадка, но я сейчас о другом.
1928 год проходит для Островского в Сочи преимущественно в борьбе с глазными болезнями и с сочинскими бюрократами по квартирному вопросу. 19 ноября 1928 г. он пишет Николаю Новикову, довольно чётко обрисовывая своё физическое состояние:
"Если бы мне каждое письмо не приносило столько острой глазной боли, я бы тебе писал часто, так как хочется поделиться многим-многим. Но ограничимся тем, чем можем. Спрашиваешь, хожу ли я на костылях? Я с декабря 1926 года лежу неподвижно на спине, не сходя с постели и не имея возможности повернуться на бока. С глазами происходит спайка зрачка и заволакивание плёнкой. Операция имеет быть следующая: прорежется в роговой оболочке отверстие – это и будет добавочный зрачок.
Ну его к чёрту, все эти болезни и хворобы, противно и ненавистно про них писать. Один убивающий факт – это я <за> пять месяцев не прочёл ничего".
Какое уж тут собственное творчество, когда и чужое-то прочитать не можешь? А через два дня в письме Жигиревой Островский отражает другой аспект – моральный:
«Милый дружочек Шурочка!
Получил твоё письмо от 12/X. Я буду писать кратко, т.к. каждое слово – мучительная боль глаз – я пишу наслепую, не видя.
Итак, я с головой ушёл в классовую борьбу здесь. Кругом нас здесь остатки белых и буржуазии. Наше домоуправление было в руках врага – сына попа, бывший дачевладелец. Я и Рая, ознакомившись со всеми, организовываем рабочих и своих товарищей, живущих здесь, и требуем перевыборов домоуправа. Все чуждые взбесились и всё, что могли, делали против – 2 раза срывали собрание. Загорелись страсти. Но, наконец, в 3-й раз собрались у меня в комнате все рабочие и комфракция и наше большинство голосов выбрало преддомуправ<лением> рабочую, энергичную женщину. Домоуправление в наших руках…
Шура! Несмотря на то, что я здесь заболел и тяжело чувствую, я всё забываю, и хотя много тревоги и волнений, но мне прибавилось жизни, так как группа рабочих, группируясь около меня, как родного человека, ведёт борьбу, и я в ней участвую".
Да, не до романа было в это время прикованному к постели, но беспокойному в жизни Островскому.
О результатах его активной деятельности в этот период мы читаем в письме Жигиревой от 12 декабря 1928 г.:
" У нас здесь столько новостей, столько происшествий, что я, конечно, не смогу всего написать даже в огромном письме. Рая пишет отдельно о своих делах. Итак, здесь работает комиссия по чистке соваппарата. Председатель – пред. Крайсуда и др. Позавчера и сегодня у меня куча гостей. Вся комиссия целиком приехала, были Вольмер и чл<ены> бюро РК, товарищи из ГПУ и др.
На меня обрушился поток людей, занятых очисткой нашего аппарата от разной сволочи.
Я, конечно, не могу всего рассказать, это мы с тобой при твоём летнем приезде <обсудим>, но основное я расскажу.
Всё то, что я отсюда писал в Москву, в край и т.п., разбиралось и дополнялось в моём присутствии всей комиссией. Не подтвердилось только… одно, а всё остальное раскрыто и ликвидируется. Товарищи все лично убедились в той обстановке, в которой я был, также холодная блокада, и камни в окна, и многое другое поважнее, и некоторое общественное, меня не касающееся лично.
Моя линия и поведение признаны правильными – партийными, все подлости и обвинения прочь. Ни о какой "оппозиционности" не могло быть и речи и т.д. – вот те выводы, которые я получил от товарищей…
…Конечно, Шурочка, я не должен быть ребёнком и думать, что всё сразу станет хорошо. Много есть хороших слов, и их приятно слушать, но ничего так празднично не делается, но у меня есть громадное моральное удовлетворение, я увидел настоящих большевиков, и меня не так сжимает обруч, и только теперь я чувствую, сколько сил ушло у меня и как я слепну".
Однако в 1928 году были и другие светлые моменты в жизни Николая Островского. Летом этого года он по путёвке райкома партии направляется на лечение в сочинский санаторий "Старая Мацеста", где знакомится с несколькими людьми, ставшими на всю жизнь его ближайшими друзьями. Среди них Жигирева, Чернокозов, Паньков. На последней фамилии мне бы хотелось остановиться несколько подробней.
Вот как вспоминает о встрече с этим человеком Раиса Порфирьевна в книге о Николае Островском:
"Тогда же, в санатории, Островский познакомился с харьковским писателем Михаилом Васильевичем Паньковым. У Панькова болели ноги, все дни он проводил в коляске: его возила приехавшая с ним жена, но вообще это был здоровяк: крепкий, полный, румяный красавец. Одет с иголочки, по-европейски.
Паньков много рассказывал о Германии, где проходил курс лечения. Это был интереснейший человек.
А главное – Михаил Паньков был первым писателем, с которым познакомился Николай Островский. Они быстро сошлись, долго оставались вдвоём, вели разговоры о литературе. Вот с ним-то Николай и поделился своими планами, рассказал, что хочет написать книгу о молодёжи, о комсомольцах двадцатых годов, рассказать об их борьбе за новую жизнь. Паньков обещал оказать ему помощь как редактор".
Но мы помним, что первой такую помощь Островскому якобы предложила ещё в 1926 г. Марта Пуринь во время их второй встречи в Новороссийске, о чём она написала в своих воспоминаниях. Ведь в то время Пуринь работала в очень авторитетной газете "Правда" и могла реально оказать содействие. Если бы всё это было так, то, наверное, написав свою первую повесть, молодой писатель тут же послал бы её в первую очередь в Москву своей подруге, с которой продолжал в то время переписываться (правда письма к Пуринь не сохранились) и которая обещала помочь. Но, по всей вероятности, ни такого разговора с Пуринь, ни повести о котовцах на самом деле не было.
Что же касается встречи с писателем Паньковым, то тут дело обстояло совсем иначе.
В письме Новикову, который живёт в Харькове, как и Паньков, Островский пишет 19 марта 1929 г., обращаясь к своему другу с просьбой, выраженной по-товарищески в виде приказа:
"Теперь тебе задание, слушай: в Харькове, в гостинице "Астория", комната 118, живёт мой знакомый по санаторию Мацеста ответ. работник тов. Паньков. Он, кажется, в Наркомпросе редактор газеты. Итак, явись к нему – он скоро за границу едет – и скажи ему, что ты мой друг, и едешь в Сочи, и будешь у меня, и что я тебе написал обязательно зайти к нему и узнать, как здоровье, и если он уехал за границу, то адрес его. За радио ничего не говори ему и, если он тебе передаст для меня какие-нибудь книги или батареи, – бери и, если сможешь, передай их твоей знакомой. Паньков очень славный парень, он мен дал слово прислать разного рода радиобарахла, – если он не забыл, – но ты язычок держи – не проболтайся, что ты и штанишки загнал, снабжаючи меня разной техникой".
И опять-таки мы видим, что в письме, упоминая Панькова, Островский ничего не говорит о литературе, о том, что ему новый товарищ сулил помощь с редактированием, но вспоминает о действительно важном для него обещании прислать радиодетали. По-видимому, мысль о написании романа, если она есть, в это время ещё не является столь важной, не жжёт мозги. Главными на этот момент являются проблемы здоровья и радиодетали, о чём он пишет во всех письмах практически всем друзьям. Надежда на какой-то успех от лечения возлагается теперь на Москву, на профессора глазной клиники Авербаха.
Любопытно, что, уже приехав в Москву на лечение, Островский пишет Ляхович 24 ноября:
"Надо тебе сказать, что пребывание в клинике для меня тяжело. Главное, некому читать, и я с завистью вспоминаю те дни, когда мы вдвоём читали дни и ночи".
Вот ведь что беспокоит. И опять ни слова о том, что не может писать. Видимо, эта идея ещё не захватывает все мысли. Да и как писать на больничной койке в палате на восемь человек, когда либо у тебя, либо у соседа процедуры, приём лекарств, ожидание операции? Но трёхмесячное пребывание в клинике не принесли ожидаемого результата, зрение не восстановилось, и теперь мысли были заняты проблемой получения в Москве комнаты для постоянного проживания. 10 января Островский пишет Ляхович:
"Операцию глаз делать сейчас невозможно до окончания воспалительного процесса. В Москве меня захватила зима, как в мышеловку. В клинике я отчаянно простудился, пролихорадил целый месяц… Я поставил своей задачей сбежать во что бы то ни стало из лечеб<ных> учреждений и куда бы то ни стало. В большие подробности моей лазаретной жизни не буду вдаваться, они мне осточертели. Я предпринимаю целый ряд шагов для того, чтобы эвакуироваться. Меня собираются перетащить в Кремлёвскую, но я всё же целюсь наутёк… завтра Рая должна принести ответ на мою попытку получить в Москве комнату.
Это почти безнадёжная попытка, но всё же попытка. Если, "старуха", это удастся – пустим пару мыльных пузырей, – то мы ещё увидимся и почитаем достаточное количество газет и журналов".
Чрезвычайно оптимистичные строки, да ещё с юмором, для человека, теряющего надежду на выздоровление. Но вечный оптимизм – это, пожалуй, главная черта характера молодого человека, которая, собственно, и сделала его писателем. Но это потом. Почти месяц спустя, 7 февраля, Островский пишет Новикову из той же клиники:
"Милый Петя!